Как заработать свои первые деньги?
Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебные системы Китая и России имеют много общего. Судебная власть, как в России, так и Китае осуществляется исключительно судами. Также они имеют схожее структурное подразделение. Как и в Китае, в России многоуровневая структура, состоящая из вышестоящих и нижестоящих судебных звеньев.
Вместе с тем в судебную систему России в отличие от Китая входят арбитражные суды, играющих весьма важную роль в современном обществе, в условиях развития рыночной экономики, предпринимательства. Для Китайской Народной Республики, развивающейся огромными темпами, особо важно регулирование отношений в данной сфере. Вместо арбитражных судов в Китае существуют арбитражные комиссии, выполняющие схожие функции. Центральным арбитражным органом является Китайская Международная Торгово-Экономическая Арбитражная Комиссия (КМТЭАК). Кроме КМТЭАК существует более 140 местных арбитражных комиссий, которые созданы и работают на основании Закона «Об арбитраже в Китае». Они могут рассматривать все виды споров, проистекающих из соглашений сторон. Местные комиссии являются в принципе гражданскими учреждениями, а не правительственными единицами, они остаются тесно связанными с правительством по ряду направлений, включая финансирование и подбор персонала. Поэтому арбитраж может быть подвержен давлению местных органов власти. Тем не менее, арбитражные комиссии не входят в судебную систему КНР, являются, по сути, административными учреждениями. В этом смысле арбитражные комиссии Китая существенно ограничены в самостоятельности, независимости, что так характерно для судебных органов.
В судебной системе КНР также отсутствуют конституционные суды, предусмотренные российским законодательством, законами субъектов РФ, осуществляющие исключительную компетенцию – конституционный контроль. Следует отметить, что в советский период истории России конституционных судов также не существовало. Некий аналог такого суда появился в Советском Союзе лишь в 1989 году; тогда был создан Комитет конституционного надзора, просуществовавший до 1991 года. Конституционный контроль является важным атрибутом современного демократического конституционного устройства. Без него немыслимо поддержание конституционной законности, а значит и законности в целом. Конституционный контроль обеспечивает функционирование конституции государства как высшего нормативного акта, имеющего непосредственное действие. Действенность, эффективность конституционного контроля обеспечивается наличием специального независимого судебного органа – конституционного суда, а также особой, тщательно регламентированной законом процедуры конституционного производства.
Литература:
1. Конституция Китайской Народной Республики принята на 5-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва 4 декабря, 1982 г. с поправками, принятыми 12 апреля 1988 г., 29 марта 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://labatr. *****/index. php? mod=pages&page=zakonstvo. Дата обращения: 15 марта 2011 года.
2. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. *****/online/base/?req=doc;base=LAW;n=34685#p53. Дата обращения: 15 марта 2011 года.
3. Закон КНР «Об организации народных судов» от 01.01.2001 г.
4. Закон КНР «Об арбитраже» от 01.01.2001 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://labatr. *****/index. php? mod=pages&page=zakonstvo. Дата обращения: 19 марта 2011 года.
5. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» № 000-1 от 01.01.2001 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. *****/online/base/?req=doc;base=LAW;n=34685#p53. Дата обращения: 15 марта 2011 года.
6. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе Российской Федерации»№ 1 от 01.01.2001 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. *****/online/base/?req=doc;base=LAW;n=34685#p53. Дата обращения: 15 марта 2011 года.
ДЕФОРМАЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ЯПОНИИ И РОССИИ
Россия, г. Екатеринбург
В настоящее время наблюдается тенденция глобализации во всех сферах жизни общества. Множество стран, ранее обладавших ярко выраженной индивидуальностью, сейчас превращаются в стандартизированные демократически-ориентированные государства, подсаженные на пустой доллар, теряющие суверенитет. Долгое время Япония оставалась закрытой, неизведанной территорией с богатой культурой и естественно сформировавшейся системой политической власти. Монархия на основе теократии, уважение и почитание гражданами императора — все это части единого явления, целостного и гармоничного по своей сути.
После Второй Мировой войны Япония оказалась оккупированной США, которые фактически заставили Японию отказаться от возможности защищать свои территории. Начала разрушаться традиционная идеология — императору было предложено официально отречься от божественного происхождения власти. По стране прокатилась волна самоубийств, чего не было даже после событий в Хиросиме и Нагасаки.
Император Японии (яп. 天皇 Тэнно) — символ единства нации Японии (статус главы государства Конституцией не предусмотрен) [8]. Настоящей властью обладает глава кабинета министров — премьер-министр Японии. В то же время, действующая Конституция Японии именно с императором связывает «волю всего народа, которому принадлежит суверенитет» [7].
Это объясняется природой статуса императора. В глубокой древности правитель Японии (Ямато) назывался «великим господином» тэнно, что в переводе означает небо, небесный. Небесный порядок проецируется на Землю, где идеальное государство во главе с тэнно должно быть организовано точно таким же образом. Очевидно, что личность воспринималась как часть единого космического порядка, гармонично в него вписанная, и поэтому каждая, отдельно взятая личность — не самодостаточна, как внушается это сегодня.
Чтобы понять смысл и историю самого титула «Император» и его содержание именно в Японии, необходимо обратиться к мифам этой страны. Согласно им, императоры Японии являются прямыми потомками богини солнца Аматэрасу. В соответствии с конституцией Японии 1889 г. император обладал божественной властью над своей страной.
Как ни парадоксально, первая Конституция Японии появилась благодаря императорским реформам, называемым «реставрацией Мэйдзи» в 1868 году. Была создана основа для дальнейшего развития производства и буржуазных отношений. Реформами в Японии было достигнуто то, что в Западной Европе достигалось кровавыми революциями.
По конституции 1889 г. государством правил «император вечной на все времена династии»; он обладал верховной властью в качестве главы государства. Император был наделён полномочиями отказывать в санкционировании законов, принятых императорским парламентом, а также мог издавать имеющие одинаковую с законами силу чрезвычайные императорские указы в период между сессиями парламента и «в случае настоятельной необходимости поддержать общественную безопасность или устранить общественное бедствие».
Конституция 1889 г. признавала за подданными свободу слова, печати, собраний и союзов «в пределах закона». Текущее законодательство поставило реализацию свободы слова, печати, собраний и союзов под контроль полиции, которая могла по своему усмотрению запретить публикацию печатных изданий, приказать прервать выступление, закрыть собрание, прекратить деятельность союза. Наличие государственной цензуры позволяло поддерживать традиционное направление интеллектуального и культурного развития общества, обеспечивающее безопасность культурного суверенитета нации. Это обусловливало иммунитет против развала страны извне.
Конституция устанавливала, что подданные Японии не могут быть подвергнуты краткому или продолжительному ограничению свободы иначе, как на основании закона, однако уже по закону 1900 года полиция могла «арестовывать лиц, в отношении которых есть опасение, что они совершат насилие, стычки или иные действия, наносящие ущерб общественной безопасности». В таком случае эти лица подлежали освобождению на следующий день до заката солнца. В 1870 г. в Японии было законодательно введено обязательное начальное образование. При этом главнейшей задачей народного образования объявлялось воспитание верных императору подданных.
Таким образом, на рассматриваемый период Япония имела законодательство, закреплявшее единоличную власть императора, с одной стороны, и отражавшее прогрессивные изменения в экономической жизни страны, с другой. Усиление роли государства в промышленности стимулировало развитие производственных отношений, служило гарантией сохранения отношений землевладения в деревне.
Поскольку Япония в годы первой мировой войны полностью была включена в мировую финансовую систему, её не обошёл кризис первой половины XX века. Среди современных исследователей существует мнение, что этот кризис был создан искусственно Федеральной резервной системой США и являлся основой передела сфер влияния крупного капитала [5, с.47]. Чтобы преодолеть это кризисное состояние, правящие круги Японии во внешней политике взяли курс на войну, а во внутренней — избрали путь к фашизму [3, с 80]. Однако Японию от «своего» Гитлера спасла сильная власть императора.
14 августа 1945 г. правительство Японии приняло Потсдамскую декларацию союзных держав [4, с.84]. В результате от имени верховного командования союзных держав в Японии фактически правили главнокомандующий американскими войсками на Тихом океане Дуглас Макартур и возглавляемый им штаб, которые ревностно служили интересам США.
В соответствии с политикой правительства США Макартур отдавал правительству Японии приказы в форме директив, меморандумов и т. п., которым придавалась большая сила, чем конституции и законам. По приказу Макартура в октябре 1945 г. был отменён закон о поддержании общественного спокойствия, а в декабре того же года религия синто была отделена от государства [2,с.69].
Технически конституция 1946 г. была поправкой к конституции Мейдзи, внесенной в соответствии с ее статьей 73, которая гласила: «Когда в будущем будет необходимо внести поправки в положения настоящей конституции, их проект должен быть представлен на рассмотрение в Имперский парламент императорским указом». Процедурная преемственность маскировала резкий разрыв с прошлым, обеспечивая плавность вхождения японского общества в новую эпоху, притупляя, по мнению современных японских исследователей, болезненное осознание того факта, что основные ценности меняются. Император, вступивший на престол при старой конституции, оставался у власти и при новой вплоть до своей смерти в 1989 г.
Особенностью японского конституционализма послевоенного времени стало полное отсутствие поправок к конституции. Этот факт тем более примечателен, что конституция, принятая под внешним давлением, не была продуктом естественного национального правового развития и вызывала критику со стороны различных политических сил.
Таким образом, навязанный характер принятия конституции Японии отразился на ее легитимности и последующем развитии. Теоретически возможное реформирование конституции путем внесения поправок или толкования норм упирается в отсутствие согласия между основными политическими силами. Если левые считают заложенные в конституции гарантии социальных прав недостаточными, то правые стремятся интерпретировать конституционные нормы в направлении традиционализма и отказа даже от тех принципов, которые зафиксированы в настоящее время. Вторая конфликтная область — проблема обороны и пересмотр в этой связи всей милитаристской традиции. Третья — неэффективность заимствованной модели судебного контроля в условиях континентальной правовой традиции. Этими обстоятельствами объясняются как отсутствие принятых поправок к конституции, так и невозможность ее адекватного толкования.
Почему же сейчас, по истечении достаточно большого промежутка времени с момента принятия Конституции 1946г., в Японии до сих пор не принята другая Конституция, которая бы возродила исконные традиции и уклад жизни в стране? Ответ можно найти, проанализировав три основных положения, которые были приняты непосредственно после Второй мировой войны «согласованной волей стран — победительниц».
Начнем с Сан-Францисского договора 1951г. Это мирный договор 49 государств с Японией, подписанный 8 сентября на конференции в Сан-Франциско. На самом деле, этот договор был предварительно подготовлен правительством США до начала работы конференции с целью не допустить изменения текста договора в пользу СССР непосредственно в ходе заседаний. Китай, Монголия и Демократическая Республика Вьетнам не получили приглашения на конференцию. Индия и Бирма отказались в ней участвовать. Вот некоторые показательные моменты из его текста:
В статье 3 договора прямо сказано, что Япония должна соглашаться с любым «предложением» США и ООН, т. к. признает над собой опеку США как единственной административной власти [9]. Также допускается вмешательство Вооруженных сил США во внутренние дела Японии, положения, запрещавшие Токио самостоятельно принимать решения о соглашениях по военным вопросам с третьими странами.
Позже в 1960 г. Между Японией и США был заключен другой — Японо-Американский договор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности. Он сохранял за США право создавать и использовать базы на территории Японии и размещать на них неограниченное количество своих вооруженных сил. Япония взяла на себя обязательство защищать эти базы, если они подвергнутся нападению.
Исследуя конституционализм Японии, сравнивая её традиции и её первую конституцию с ныне действующей, можно сделать вывод об утрате этой страной своего иммунитета на сегодняшний день. Первым шагом к этому была утрата культурного суверенитета. Этот вид суверенитета Н. Стариков называет самым важным, с отсутствием которого «начинается путь в пропасть» [6, с.10]. Современные японцы свято верят в то, что только благодаря американцам Япония встала на путь процветания. Искажённые знания позволяют внушить народу мысль о его второсортности, неспособности самостоятельно развивать свою государственность.
После своего разгрома в 1945 году — Япония оплот демократии, виднейший и вернейший соратник США в Азии. Япония — это не только военные базы Штатов рядом с Россией и Китаем, но ещё и крупнейший потребитель долларовой массы после того же Китая. Валютные (т. е. в основном долларовые) запасы Страны восходящего солнца уступают только Китайским. Поэтому о наличии у Японии экономического суверенитета также надо говорить очень осторожно.
Как известно, дипломатический суверенитет — это возможность проводить независимую международную политику. Однако дипломаты в своей деятельности всегда считаются только с реальными фактами, а именно — с военной силой и сильной экономикой. На сегодняшний день дипломатический суверенитет Японии остаётся под вопросом. Япония, лишившись своей собственной, национальной конституции, национального главы государства и национального мировоззрения, утратила и собственный суверенитет, удержав только признание международным сообществом территории страны, флага, герба и гимна.
Проблемы Японии понятны России, поскольку нам не чужд Восток. Наша объединяющая идея – ценность общества, нужность своему государству. Много общего и у конституций Японии (1946) и России (1993). Приняты они не без внешнего влияния, во время бедствия как одного государства, так и другого. И в том, и в другом документе появилась норма, разбивающая общество на отдельные индивиды, ставящая отдельного человека над всеми.
Формулировки Конституции Японии более мягкие, чем нормы Конституции России. Страна восходящего солнца гораздо дольше оставалась закрытой, традиции не успели «раствориться» в пришедших извне идеях. Статья 2 Конституции России провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства. Разница бросается в глаза, если сравнить это положение с соответствующей нормой Конституции Японии. Статья 13 говорит об уважении всех людей как личностей, но при этом допускает оговорку, что их право на жизнь, свободу и на стремление к счастью не должно нарушать общественного благосостояния. Называя означенное право «высшим предметом заботы в области законодательства и других государственных дел», норма, тем не менее, смягчает формулировку, напоминая о ценности общественного благосостояния.
То же можно отметить и про частную собственность. Во всех западных конституциях можно найти положения, возводящие частную собственность в разряд естественных прав человека. Эта разрушительная идеология положена и в основу Конституции РФ: статья 35 Конституции РФ, посвящённая праву частной собственности, находится в разделе об основных конституционных правах и свободах человека и гражданина. Частная собственность – это социальное явление, и её нельзя называть обязательным условием достойного существования человека.
Статья 29 Конституции Японии защищает право собственности, не употребляя термина «частная». Тем не менее, характер этой собственности угадывается из положений статьи, в которых употребляется противопоставление: право собственности не должно противоречить общественному благосостоянию.
Это говорит о том, что японцы не старались быть «святее папы римского», они были силой принуждены принять такую Конституцию и ближайшей своей задачей видели сохранить свои традиции, хотя бы в противоречивых формулировках. Однако механизм разрушения традиционного мировоззрения запущен.
Мировоззрение народа должно быть тесно связано с идеологией, признанной государством, тогда у этого государства есть будущее. В то же время, давление извне, насаждение чуждой идеологии может привести к разрушительным последствиям, поскольку её функции – овладение массовым политическим сознанием, внедрение в него своих оценок прошлого, настоящего и будущего государства и общества, определение целей и задач, которые могут быть ориентирами в политике.
Небезынтересна позиция ёвой, рассматривающей идеологию как необходимое пространство жизнедеятельности государства, наравне с политикой и психологией. Конституция государства должна содержать основную идею, объединяющую общество, всех граждан этого государства. На этой идее должна быть построена идеология государства, его политика [1, с.14].
Литература:
1. Грачёва Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. - Рязань, 2009.
2. Инако Цунэо. Современное право Японии. - М., 1981.
3. Маруяма Масао. Идеи и действия в современной политике. Т
4. Сборник документов, связанных с капитуляцией Японии. г. г.- М., 1947.
5. Спасение доллара — война. – СПб., 2010.
6. Национализация рубля — путь к свободе России. - Спб., 2011.
7. Интернет-ресурс: http://ilk-ilk. *****/japanabout/konstitutciya. htm. Дата обращения — 24 марта 2011г.
8. Император Японии/http. Интернет-ресурс: http://wikipedia. org/wiki/. Дата обращения — 24 марта 2011г.
9. Интернет-ресурс: http://www. taiwandocuments. org/sanfrancisco01.htm. Дата обращения — 24 марта 2011г.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ МОНГОЛИИ
Россия, г. Иркутск
На основе анализа информации об общественно-политической ситуации в Монголии, сопоставления юридических и фактических обстоятельств автор делает вывод, что правовая система была сформирована из потребностей общественного развития. Особое место в оценке монгольской правовой системы необходимо отводить цивилизационным факторам.
Монголия среди стран Северо-Восточной Азии имеет наименьшее отношение к конфуцианским традициям. Наоборот, именно Монголия имеет собственную цивилизацию, повлиявшую на развитие большинства среднеазиатских и европейских государств современного мира. Монгольскую цивилизацию отождествляют с эпохой завоеваний Чингисхана и его последователей. После выплеска этой энергии монголы, оставшиеся и, вероятно, немногие вернувшиеся в Халху, вернулись к тому самому стабильному типу хозяйствования, что определял развитие монгольской цивилизации вплоть до сегодняшнего времени. Первым законодательным памятником монгольского права была "Яса" [1] (по-тюркски, по-монгольски "дзасак" - закон, постановление, запрет, наказание) Чингисхана 1206 г., который кодифицировал обычаи, существовавшие в монгольском обществе. "Яса" содержала нормы государственного, административного (налоги, повинности), уголовного, гражданского права. "Великая Яса" Чингисхана служила основой для управления завоеванными странами.
Второй кодификацией монгольского права стали "Их цааз" (Великое уложение), или монголо-ойратские законы 1640 г. [2], за которыми последовала Халха Джирум 1709 г. Они юридически закрепляли сложившиеся в монгольском обществе общественные отношения и представляли собой степное обычное и феодальное право, получившее санкцию закона. В последующие годы Монголия постепенно внедряла законы, изданные маньчжурскими властями, в частности так называемое Уложение китайской палаты внешних сношений 1815 г. Тем не менее, к началу XX в. по уровню своего социально-экономического развития Монголия была одной из наиболее отсталых стран Азии, где почти безраздельно господствовали феодальные отношения (сохранялось даже крепостное право). В стране не существовало ни одного современного правового института.
После победы Народной революции 1921 г. в Монголии была постепенно и в значительной степени искусственным путем создана совершенно новая правовая система, имевшая в качестве образца для подражания правовую систему СССР. В 1924 г. принята первая в истории страны Конституция, провозгласившая Монголию Народной республикой, в которой высшая государственная власть принадлежит подлинному народу". В 1926 г. утвержден первый Уголовный кодекс, в 1927 г. началась кодификация нового гражданского законодательства. Конституция 1940 г. охарактеризовала Монгольскую Народную Республику как "государство трудящихся (аратов-скотоводов, рабочих и интеллигенции), уничтоживших империалистический и феодальный гнет, обеспечивающее некапиталистический путь развития страны для перехода в дальнейшем к социализму". Она также закрепила руководящую роль Монгольской Народно-Революционной Партии (МНРП) в обществе и государстве. На основе Конституции 1940 г. в Монголии была создана социалистическая правовая система. Социалистические производственные отношения и политическая система были закреплены в Конституции 1960 г. После этого кодификационные работы были продолжены (приняты УК 1961 г., УПК 1964 г., ГПК 1967 г., Семейный кодекс 1973 г.). В начале 1990-х годов Монголия стала первой из азиатских стран, провозгласивших переход от марксистско-ленинской социалистической системы к обществу, основанному на политическом и идеологическом плюрализме и экономической свободе. Смену общественного строя закрепила Конституция 1992 г., основанная на принципах, известных большинству либеральных основных законов различных государств современного мира: демократии, разделения властей, приоритета прав человека, многообразие форм собственности. Конституция провозглашает построение и развитие в стране гуманного, гражданского, демократического общества.
Современная правовая система Монголии входит в романо-германскую правовую семью, сохраняя определенные черты социалистического права. Первичным элементом национальной системы права Монголии является юридическая норма. Определение и характеристики правовых норм Монголии предельно схожи с российскими и представляются наиболее понятными для отечественной науки по сравнению с аналогичными явлениями, изучаемыми в других странах Северо-Восточного азиатского региона. Нормы права Монголии - это устанавливаемые (либо санкционируемые) монгольским государством общеобязательные, формально определенные, обеспечиваемые государством правила поведения, направленные на регулирование наиболее значимых социальных отношений. Субъекты, уполномоченные устанавливать правовые предписания, строго определены - это, как правило, специально уполномоченные на то органы государственной власти, действующие в особом процессуальном порядке. Исключение составляют нормы, принимаемые на референдуме, которые специальным образом обеспечиваются государственными органами, нормы обычного и международного права, также требующие особого санкционирования и обеспечения со стороны государства. Средства, приемы и способы создания, толкования и оценки правовых установлений также нормативно определены. Нормы имеют определенную писаную, словесную либо конклюдентную, документальную форму выражения. Публикуются в специально уполномоченных средствах массовой информации. Нормы права составляют в Монголии, как и в других странах романо-германской правовой семьи, определенную иерархическую систему. На верхней ступени этой системы стоят нормы конституции или конституционных законов. Они имеют высшую юридическую силу. Конституционные нормы принимаются или изменяются в особом порядке. Их особый правовой статус выражается в установлении контроля над конституционностью других законов [3].
Основным источником права в Монголии является нормативный правовой акт. Иерархия нормативно-правовых актов включает: Конституцию, законы Великого Государственного Хурала Монголии, указы Президента, постановления и директивы Правительства, подзаконные акты министерств и ведомств, органов местного самоуправления. Действующая Конституция Монголии была принята в "11 часов 35 минут 13 января 1992 г. и вступила в силу по всей стране с 12 часов 12 февраля 1992 г., или с часа лошади благословенного дня желтой лошади, отмеченного узами молодости, девятого дня первого весеннего месяца черного барса года водяной обезьяны семнадцатого шестидесятилетия" [4]. Применительно к Монголии термин "конституция" может быть рассмотрен с формальной точки зрения как закон, обладающий высшей юридической силой по отношению к другим законам. Отсюда возникает целый комплекс характерных признаков. Во-первых, рассматриваемая Конституция представляет собой закон, который обладает высшей юридической силой по отношению к другим законам. В отечественной конституционно-правовой науке достаточно неплохо освещены вопросы юридической силы конституции. Отметим лишь, что применительно к Основному Закону монгольского государства рассматриваемые теоретические выводы могут быть использованы в полной мере. Во-вторых, Конституция Монголии представляет собой систематизированную совокупность юридических норм, что позволяет разграничивать сферы и объекты правового регулирования и задает ориентиры и направления развития системы права. Обозначенное характерное качество позволяет рационализировать реализацию правовых норм, а также способствует специализации государственного управления. Именно Конституция является той юридической формой, которая способствует закреплению и использованию таких правил поведения, необходимость в которых предопределяется целями достижения наиболее полного сочетания интересов государства, общества и личности и придает соответствующим отношениям публично-правовой характер. В-третьих, действующая Конституция имеет все шансы стать реальным, работающим правовым документом - законом, который применяется на практике. Это имеет существенное значение для Монголии, если учесть ее социалистическое прошлое. Конституция Монголии - это не только программа организации и развития общества и государства и уж тем более не политическая ширма, прикрывающая вседозволенность власти. Внешняя структура Конституции может быть названа традиционной или классической. Она состоит из преамбулы и основной части, где глава шестая "Внесение дополнений и изменений в Конституцию Монголии" параллельно может рассматриваться как переходные или заключительные положения. Преамбула Конституции Монголии представляет собой торжественную часть, в которой устанавливается цель "построить и развить в родной стране гуманное, демократическое общество" и обозначаются стратегические условия достижения поставленной цели. Основная часть Конституции Монголии представлена в виде компактно сформированных глав, которые состоят из статей, делящихся на части и имеющих номера. Всего в Конституции насчитывается шесть глав и семьдесят статей. Порядок расположения глав и статей имеет смысловое значение, отражающее логику изложения конституционных положений. Смысловые связи изложения глав и статей расположены от общего к частному, а последовательность соответствующих положений обусловливает их реальную роль для государства. Важное значение для национальной правовой системы имеют международные договоры. Согласно Конституции Монголии (ст. 11) с момента вступления в силу закона, регулирующего утверждение или присоединение Монголии к международным договорам, последние имеют ту же силу, что и внутреннее законодательство. Особое место в системе источников права занимают решения Суда конституционного надзора, которыми может быть аннулирована любая норма закона или подзаконного акта.
Действующая Конституция Монголии имеет учредительный характер, который проявляется в принципиальных положениях: провозглашении Монголии демократическим и правовым государством с республиканской формой правления, закреплении разделения властей, утверждении конституционных основ создания и деятельности парламента - Великого Государственного Хурала Монголии.
Литература:
1. См.: Вернадский и Русь. - М., 1997.
2. Голстунский -ойратские законы 1640 года. Дополнительные указы Галдан-хун-тайджия и законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши. - СПб., 1880. - С. 147.
3. Тихомиров сравнительного правоведения. - М., 1996. - С. 76.
4. Статья 17 Конституции Монголии // Вестник государства. Монголия. Улан-Батор. 1992. Январь (перевод неофициальный).
II. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ В СТРАНАХ АТР
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА БРАКА И СЕМЬИ
В КНР И РОССИИ
Россия, г. Улан-Удэ
В любом государстве особое значение имеет укрепление института брака и семьи, который закладывает основу благополучия и процветания. Итак, что же понимается под этим сложным общественным явлением. В первую очередь, семья является уникальным способом построения общественной жизни людей, существующим на протяжении всей истории человечества. Семья по своей сути есть биологический и социологический институт упорядочения жизни человеческого рода. Объединение людей в семью обусловлено различными интересами, и в первую очередь, безусловно, это продолжение рода — рождение детей, а также другие материальные и духовные потребности. Семья выступает в форме социального приспособления к условиям существования на Земле.
Целью данного исследования является сравнение и выявление различий и сходств между институтами брака и семьи Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
На основе конфуцианских суждений о семье, особенностях взаимоотношений между различными категориями родственников и учении о почтении старших и любви к младшим, в Китае сложилась традиционная модель семейных отношений, где основным звеном являлся брак.
Переход к рыночным отношениям, политика реформ, общемировые тенденции развития института семьи привели к переоценке традиционных ценностей, смене приоритетов и в значительной степени оказало влияние на семейно-брачные отношения в Китае: значительно увеличилось количество разводов, возросло число одиноких людей и однодетных семей [3].
В России ситуация приняла аналогичный оборот. Наряду с известными формами семьи, как родоплеменная, матриархальная, патриархальная, в современной России появилась еще одна форма — неполная семья. Также намечена тенденция «игнорирования» зарегистрированных браков, молодые люди, не состоявшие в браке и более старшее поколение, «побывавшее» в браке, не «спешат» с узакониванием сложившихся фактических брачных отношений [1].
Первым законодательным актом, регулирующим брачно-семейные отношения, стал Закон КНР о браке, принятый в 1950 году - это основной закон, регулирующий брак и семейные отношения [2]. После он был переработан два раза. Последняя редакция была принята 28 апреля 2001 года. В России же семейно-брачные отношения регулируются Семейным Кодексом РФ, принятым 8 декабря 1995 года (далее — СК РФ).
Как известно, одной из основных составляющих политики Китая в сфере семейных отношений, является ограничение рождаемости в силу высокой плотности населения. А в России, напротив, отмечается повышение роста рождаемости, вследствие проведения государственных программ. Так как в настоящее время, эффективная поддержка материнства и детства является главнейшим компонентом демографической политики.
Брак по российскому законодательству – это свободный и равноправный союз мужчины и женщины. Свобода и равные права мужчины и женщины, вступающих в брак, - первое условие для заключения брака [1]. Не имеет ярко выраженных отличий от российского законодательства китайское толкование брака, как легитимное признание союза мужчины и женщины и рожденных в нем детей.
Вторым условием заключения брака считается достижение брачного возраста лицами, вступающими в брачный союз. В соответствии с п. 1 ст. 13 СК РФ установлен единый брачный возраст для обоих полов — 18 лет. Государственная политика направлена на снижение брачного возраста. В Китае же наблюдается противоположная тенденция. Новая редакция закона о браке устанавливает брачный возраст – 22 года для мужчин и для женщин – 20 лет. Что опять же объясняется политикой поддерживания стабильного уровня демографии. Вообще сегодня в Китае средний возраст вступления в брак достиг рекордных показателей: у мужчин — 27, у женщин 25 лет.
Наряду с условиями, необходимыми для заключения брака, закон называет обстоятельства, запрещающие брак. Статья 14 СК РФ запрещает: полигамию, заключение брака между близкими родственниками по прямой линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) и боковой линии родства (полноводными и неполноводными братьями и сестрами), заключение брака между усыновителями и усыновленными, заключение брака с лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. В китайском законодательстве предусматриваются аналогичные обстоятельства для признания брака недействительным, однако учитывается и такой факт, как несоответствие брачному возрасту.
Также можно отметить в законе КНР о браке, в отличие от СК РФ существует статья, по которой брак должен быть расторгнут в случаях: полигамии, проживания с другим лицом, домашнего насилия, жестокого обращения, оставления без помощи, употребления наркотиков или других пороков, раздельного проживания супругов более двух лет, безвестного отсутствия одного из супругов, а также других обстоятельств, которые приводят к разрушению чувств супругов [2].
Все вышесказанное отражает различия и сходства регулирования брачно-семейных отношений в Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Подводя итог, можно сказать, что сходства элементов превышает количество различий в институте брачно-семейных отношений.
Литература:
Законодательные материалы: Семейный Кодекс Российской Федерации [принят 29 декабря 1995 года. Принят Государственной Думой]
Сетевые ресурсы:
1. А / Проблемы института брака//URL: http://www. *****/articles/184/
2. Почагина редакция закона КНР о браке// URL: http://*****/weekly/2002/075/analit04.php
3. Почагина [в Китае]: новые формы - иные ценности// URL: http://*****/weekly/2009/0373/analit06.php
ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ
В РОССИИ, КИТАЕ И ЯПОНИИ
Россия, г. Москва
Условиями реализации прав и свобод человека и гражданина являются создание максимально благоприятных юридических возможностей для полноценного развития личности, составляющих социально-правовой механизм защиты, а также совершенствование средств защиты прав и свобод [5, с.].
Основной Закон России закрепляет в ст. 18 принцип-гарантию, согласно которому права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов. отметил, что гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации физическим лицом принадлежащих ему прав и свобод [2, с. 22], получающие детальное обоснование во всех отраслях действующего права [4, с. ].
Для того чтобы права и свободы граждан могли эффективно осуществляться, необходимо наличие действенного механизма гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина. От эффективности действия юридических гарантий, зависит степень реализации прав, свобод и обязанностей граждан, правоприменительная практика и, в конечном счете, подчиненность государства праву.
В России, на фоне существующих проблем обеспечения прав и свобод граждан, особую роль играет конституционная гарантия обеспечения каждому квалифицированной юридической помощи, поскольку она предполагает обязанность государства по предоставлению таковой и юридическую ответственность органов власти и управления за непринятие мер по надлежащему обеспечению ею граждан, в соответствии с их потребностью. Необходимо отметить, что данная обязанность государства закреплена не только в Конституции России, но и в конституциях различных государств. Так, например в Японии оказание юридической помощи в предусмотренных законом случаях является обязанностью государства и реализуется адвокатами (ст. 34 Конституции Японии 1946 г.). Одним из принципов, закрепленных в Конституции КНР 1982 г. является принцип равного доступа всех граждан к средствам правовой защиты, что также является гарантией всеобщего равенства перед законом.
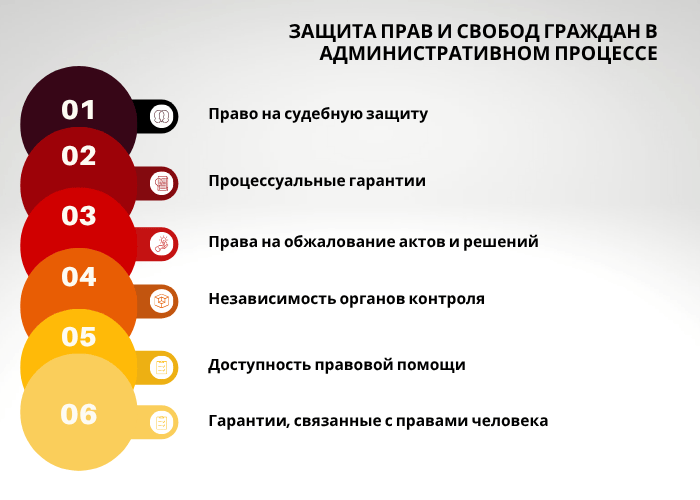
Механизм предоставления бесплатных или льготных юридических услуг в России эффективным назвать нельзя. Часть 2 ст. 48 Конституции РФ предусматривает гарантии пользоваться помощью адвоката задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Конституция Японии гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической защиты, даже когда обвиняемый не может сам обратиться к помощи квалифицированного адвоката и защитника назначает государство. Адвокат по законодательству Японии в обязательном порядке предоставляется лицу на основании ст. 34 и 37 Конституции, где закреплено, что никто не может быть задержан или подвергнут лишению свободы, если ему не будет немедленно предъявлено обвинение и предоставлено право обратиться к адвокату. Закрепляется также право быть задержанным только при наличии достаточных оснований, которые должны быть сообщены на открытом заседании суда в присутствии самого задержанного и его адвоката.
Конституционная гарантия по предоставлению квалифицированной юридической помощи в законодательстве Японии получила свое дальнейшее развитие и закрепление не только в Законе «О практикующих адвокатах» 1949 г., но и в Законе от 2 июня 2004 г. «О всесторонней юридической поддержке». В соответствии с указанными нормативными актами, адвокат для оказания юридической помощи, назначается судом, председателями судов, судьями, для защиты лиц, являющихся несовершеннолетними, потерпевшими, а также членам их семей (которые пострадали вследствие совершенного преступления; их супругам, родственникам по прямой линии в случае смерти либо причинения серьезного физического или нравственного страдания). Ответчикам или подозреваемым в совершении преступлений, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Японии, для того, чтобы обеспечить им доступ к участию в судопроизводстве и полному использованию системы компенсаций за причиненный вред и поддержке пострадавших от преступлений и членов их семей.
Федеральный закон от 01.01.01 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в ст. 26 перечисляет лиц, относимых к числу субъектов рассматриваемого конституционного права, гарантированного малоимущим: истцов по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, связанного с трудовой деятельностью, при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий ветеранов войны, граждан, пострадавших от политических репрессий, несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, законодательством Японии установлен значительно более широкий круг лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката.
На основании изложенного, полагаем, что необходимо ввести законодательные гарантии, конкретизирующие и обеспечивающие эффективную реализацию конституционной нормы, закрепленной в 2 ст. 48 Конституции РФ. Поскольку согласно действующему законодательству квалифицированную помощь в Российской Федерации оказывают адвокаты, на которых государством возложена данная конституционная обязанность, а также государственные юридические бюро, повсеместное создание которых видится государству наилучшим способом решения проблемы обеспечения населения квалифицированной юридической помощью. Думается, что российское законодательство недостаточно полно определяет случаи, когда юридическая помощь должна быть оказана бесплатно, и не на рыночных принципах. А между тем осуществление публично-правовой функции - обеспечение каждому доступности квалифицированной юридической помощи адвоката - это в первую очередь обеспечение доступности юридических услуг с точки зрения материально-финансовых возможностей их потребителей. Кроме того, даже тем «условным» правом на юридические услуги могут воспользоваться лишь граждане Российской Федерации, а присутствие на территории страны беженцев, иностранных граждан, лиц без гражданства законодатель во внимание не принимает.
Так, решением Совета Адвокатской палаты Московской области (далее АПМО) от 01.01.01 г. N 4/23-8 «О порядке предоставления юридической помощи бесплатно малоимущим, нуждающимся и гражданам Российской Федерации на территории Московской области» установлено, что бесплатная юридическая помощь должна предоставляться как гражданам Российской Федерации, так и иностранцам, лицам без гражданства, лицам, прибывающим на временную работу, переселенцам и иным категориям лиц, нуждающимся в бесплатной юридической помощи. Предметом регулирования указанного решения является правовая незащищенность малоимущих, а также отдельных категорий граждан России, обеспечение им доступа к правосудию, осуществление конституционных, гражданских прав и свобод и охраняемых законом интересов.
В Японии возмещение затрат, связанных с оказанием юридической помощи, также производится не за счет государства, а из средств самого адвокатского сообщества. Защита, будучи не только правом, но и конституционной обязанностью адвокатов (ст. 34 Конституции Японии 1946 г.), тем не менее не ставит адвокатуру в финансовую либо какую-то иную зависимость от государства. Напротив, адвокатура Японии неподконтрольна, независима и осуществляет свою деятельность на основе полной финансовой автономии. Источниками самофинансирования являются ежемесячные членские взносы и добровольные пожертвования. Из этих средств корпорация и оплачивает труд адвокатов, участвующих в защите бесплатно или оказывающих помощь малоимущим по гражданским, семейным делам. Японская Федерация ассоциаций адвокатов принимает поручение на ведение гражданского дела, если имеется перспектива выигрыша процесса.
Безусловно, составной частью такого механизма должна быть система достойных денежных компенсаций. Отсутствие нормальной оплаты труда адвокатов по назначению значительно сужает возможности свободно выбирать защитника и, следовательно, право на доступ к правосудию, гарантированное Конституцией РФ. В России в целом такого механизма, увы, пока не существует. Однако согласно упомянутому решению Совета АПМО от 01.01.01 г., размер вознаграждения адвокату за фактически выполненную работу по оказанию бесплатной юридической помощи и компенсационных выплат устанавливается решением Совета АПМО на основании представленного адвокатом отчета, которые перечисляются на счет адвокатского образования. Финансирование профессиональной деятельности и компенсация расходов, включая транспортные при выполнении поручения в ином судебном районе, производится Советом АПМО по документам, подтверждающим соответствующие расходы.
Закон КНР «Об адвокатах и юридическом представительстве», обнародованный на XIX съезде Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей 8-го созыва 15 мая 1996 г., вступивший в силу 7 января 1997 г., стал фундаментом для социально-правовой защиты малоимущих граждан. Так, в соответствии со ст. 41 указанного Закона граждане, которым необходима помощь адвоката при обращении к государству за пособием или компенсацией по поводу получения пенсий для инвалидов, для семьи покойного, для получившего увечья на рабочем месте, или помощь по уголовному делу, но которые не могут позволить себе платить адвокату, могут, в соответствии с установленными государством правилами, получить юридическую помощь.
В связи с принятием Закона КНР «Об адвокатах и юридическом представительстве», также был принят Закон КНР 1996 г. «О гарантии прав и интересов пожилых людей» (в соответствии со ст. 39 которого, лица старше 60 лет имеют право на правовую помощь), были приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс 1996 г., в соответствии с которыми суд может назначить защитника, если обвиняемый не может себе этого позволить.
В декабре 1996 г. Министерством юстиции КНР был учрежден Национальный центр юридический помощи. Провинциальные и муниципальные образования начали создавать центры правовой помощи для неимущих граждан.
28 апреля 1997 г. Верховный народный суд КНР совместно с Министерством юстиции разработали требования оказания правовой помощи, в соответствии с которыми бесплатная правовая помощь может быть назначена судом в случаях: 1) если обвиняемый является неимущим и экономическое положение его семья неизвестно; 2) если семья обвиняемого неоднократно отказывается платить судебные издержки; 3) если другие обвиняемые имеют адвокатов; 4) если подсудимый – иностранец без адвоката; 5) если дело имеет большое социальное значение. Также суд может назначить бесплатную юридическую помощь, если речь идет о смертной казни обвиняемого, также если обвиняемый несовершеннолетний, либо ответчик является инвалидом.
В сферу правовой помощи также включены:
• дела о производственных травмах;
• дела, связанные с несовершеннолетними, а также детьми-сиротами;
• иски инвалидов, несовершеннолетних, пожилых людей о компенсации «нарушенных прав»;
• претензии о пенсионном обеспечении или выплате сумм инвалидам или семьям погибших;
• требования по государственной компенсации[1].
Программу оказания правовой помощи в Китае поддерживают и иностранные организации, такие как Фонд Форда, Канадское агентство международного развития (CIDA), Программа развития ООН (ПРООН) и Фонд Азии. Фонд Форда был организацией, предоставившая поддержку в виде грантов для университетов. В настоящее время при поддержке Фонда Форда создаются базы данных, ведутся сравнительные исследования, а также идет подготовка профессиональных адвокатов.
Литература:
1. Legal Aid In China. The Asia Foundation. Working Paper Series. Allen C. Choate. 2000 // URL: http://unpan1.un. org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017813.pdf (дата обращения: 04.03.2011).
2. Государственное право Российской Федерации: Курс лекций / Под ред. . Т. 1. - М., 1993. - С. 220.
3. Закон о практикующих адвокатах Японии от 01.01.01 г. N 205. URL: http://www. Japanese_Law_Translation. mht. (дата обращения: 04.03.2011).
4. , Кутафин право России: Учебник. - М., 1995. - С.
5. Орлова -правовой механизм реализации и защиты прав и свобод личности в гражданском обществе // Государство и право№ 7. - С.
6. Федеральный закон от 01.01.01 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Российская газета№ 000.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ДЕТЕЙ, УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ)
В МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Мандухай Цэндсурэн,
Монголия, г. Улан-Батор
Россия и Монголия теснейшим образом связаны друг с другом на протяжении нескольких столетий и являются ближайшими соседями. Неудивительно, что данная близость способствует развитию самых различных двусторонних связей. Так, все чаще заключаются браки между российскими и монгольскими гражданами, между гражданами России или Монголии и гражданами иностранных государств. Также наблюдается тенденция к увеличению числа усыновлений (удочерений) российских и монгольских детей иностранными гражданами. Все вышеуказанное с неизбежностью приводит к необходимости решения вопроса о гражданстве детей. Особенно остро стоит проблема определения гражданства усыновленных (удочеренных) детей.
Вопрос усыновления монгольских и российских детей иностранными гражданами регулируется различными международными документами, монгольским и российским законодательством. Решение о возможности усыновления в данных странах детей иностранными гражданами на государственном уровне было принято исходя из положений международных правовых норм, конституций и других документов, определяющих в качестве приоритета право ребенка на воспитание в семье.
Как в России, так и в Монголии законы регулируют вопросы гражданства детей при усыновлении с максимальным учетом интересов ребенка в возможных жизненных ситуациях. Исходным принципом при этом является стремление обеспечить одинаковое гражданство всех членов семьи, принять во внимание желание детей, способных по возрасту делать сознательный выбор, исключить состояние безгражданства детей, а при возможности – сохранить российское и монгольское гражданство детей в их интересах.
Под гражданством понимается устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека и гражданина [2]. С гражданством связаны самые существенные последствия для человека: объем его прав, свобод, обязанностей. Гражданин Монголии или России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
При нынешнем состоянии норм международного права о гражданстве, которое, главным образом, состоит из обычных правил, вопросы приобретения гражданства являются в принципе суверенной областью государства. Монголия и Россия как суверенные государства самостоятельно регулируют вопросы гражданства. Так, например, 5 июня 1995 года Великий Государственный Хурал принял Закон «О гражданстве Монголии». Как и в Монголии, в России в соответствии с Конституцией РФ был принят Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 01.01.01 года [2].
Вопросам определения гражданства усыновленного (удочеренного) ребенка-гражданина Монголии, посвящены ч. 6 ст. 7 и ст. 13 Закона «О гражданстве Монголии». Так, при усыновлении лицом без гражданства ребенка, имеющего гражданство Монголии и не достигшего 16 лет, ребенок сохраняет гражданство Монголии. Данное условие представляется целесообразным, поскольку при условии несохранения гражданства Монголии несовершеннолетний будет признан апатридом. При этом Монгольское государство, как и все мировое сообщество, стремится к сокращению числа лиц без гражданства.
В соответствии со ст. 13 Закона «О гражданстве Монголии» усыновленный супругами - иностранными гражданами ребенок, имеющий гражданство Монголии и не достигший 16 лет, сохраняет свое гражданство. В случае если супруги – иностранные граждане при усыновлении ребенка, имеющего гражданство Монголии, изъявят желание изменить его гражданство, то вопрос о гражданстве данного ребенка может быть решен с учетом мнения усыновляющих родителей. Ребенку, имеющему гражданство Монголии и достигшему 16 лет, можно разрешить выход из гражданства Монголии по желанию усыновивших его супругов - иностранных граждан.
В Российской Федерации вопросы определения гражданства детей при усыновлении (удочерении) рассмотрены в ст. 26 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» [2]. Так, согласно вышеуказанной статье ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.
Также ч. 2 ст. 26 закона о гражданстве предусматривает приобретение гражданства несовершеннолетним – негражданином России в случае его усыновления российскими гражданами. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой - лицом без гражданства, приобретает гражданство Российской Федерации со дня его усыновления (удочерения) независимо от места жительства ребенка по заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской Федерации.
В случае же, если ребенок усыновляется супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, то несовершеннолетний может приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо от своего места жительства. В данной ситуации законодатель предусматривает обязанность учитывать мнение обоих родителей. Таким образом, исключается возникновение с будущем спорных ситуаций о гражданской принадлежности ребенка. Если же в течение одного года со дня усыновления (удочерения) оба усыновителя не подадут заявления, то ребенок приобретает гражданство Российской Федерации при условии проживания на территории Российской Федерации и ребенка и родителей.
Сравнивая подходы российского и монгольского законодателей по вопросу гражданства усыновленных (удочеренных) детей, можно сделать вывод о схожести правового регулирования. Данный вывод подтверждается следующими обстоятельствами:
1. При усыновлении ребенка, имеющего монгольское или российское гражданство, иностранными гражданами несовершеннолетний сохраняет свою гражданскую принадлежность.
2. Изменение гражданства усыновленного или удочеренного ребенка возможно только при инициативе усыновителей.
3. Изменение гражданства усыновленных детей невозможно, если существует вероятность возникновения безгражданства ребенка. Таким образом, Монголия и Россия стремятся к максимальной защите интересов детей при усыновлении, одновременно обеспечивают реализацию ребенком права на семью.
Помимо сходств нами выявлены различия в правовой регламентации гражданства детей при усыновлении. Интересен тот факт, что российский закон содержит отдельные нормы, регулирующие случаи изменения гражданства российских детей при усыновлении иностранными гражданами, а также случаи приобретения гражданства России детьми при усыновлении российскими гражданами. В отличие от российского, монгольский закон в специальных нормах предусматривает только случаи определения гражданства при усыновлении монгольских детей иностранцами.
Стоит отметить, что особый акцент в нормах закона о гражданстве Монголии сделан на факте достижения ребенком возраста 16 лет. В России же специальных требований к определенному возрасту нет. В этом случае срабатывает общее правило, по которому россиянин вправе самостоятельно решать вопрос о своем гражданстве по достижении возраста совершеннолетия, то есть 18 лет. Поэтому можно утверждать, что Российская Федерация более требовательно относится к изменению гражданства детей.
В данном сравнительном исследовании рассмотрены лишь основные положения, касающиеся гражданства детей при усыновлении в Монголии и Российской Федерации. Следовательно, в рамках одной статьи невозможно охватить весь тот огромный массив информации, имеющий отношение к данной теме. Дальнейшее изучение вопросов, связанных с гражданством детей представляется, безусловно, перспективным.
Как было верно отмечено в одном из исследований: «Вопросы гражданства существуют уже давно. Они решались и решаются по-разному в различные исторические эпохи, в тех или иных общественно-экономических системах, конкретных государствах» [1].
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что Монголия и Россия устанавливают схожие правовые нормы в области гражданства детей при усыновлении, но эти нормы не имеют идентичный характер.
Литература:
1. Монхбатаар Даваасамбуу. Сравнительно-правовое исследование отдельных вопросов гражданства Монголии и Российской Федерации (материалы международной студенческой научно-практической конференции, 17 апреля 2009 г.) – Улан-Удэ, 2009. - С. 66
2. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 01.01.01 г. // Российская газета от 01.01.2001 г. № 000.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
ПО РОССИЙСКОМУ И КИТАЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Россия, г. Улан-Удэ
В последние годы российско-китайское экономическое сотрудничество развивается довольно быстро, хотя и не без трудностей. И этот рост в обозримой перспективе, несомненно, должен продолжиться, поскольку этому способствуют различные факторы. Во-первых, это наш ближайший сосед, а во-вторых, Китай с каждым годом укрепляет свои позиции на мировой арене. И естественно, что быстро развивающиеся российско-китайские отношения создают большой потенциал для привлечения инвестиционных средств и для участия в сделках с иностранными компаниями.
Для более глубокого развития внешнеэкономических отношений между Россией и Китаем необходимо иметь представление о принципах заключения, исполнения договоров и правового регулирования отдельных видов договоров страны контрагента. В связи с этим актуальным становится изучение китайского права.
Гражданско-правовые отношения в Китае регулируются «Общими положениями гражданского права» (далее – Общие положения), вступившими в силу в 1987 г., которые закрепляют основы системы гражданского права как отрасли, ее место в системе современного китайского права и регламентируют статус юридических лиц, сделки, обязательства, институт права собственности [3, 1]. Наряду с Общими положениями были приняты законы, регулирующие отдельные сферы правоотношений. Так, в марте 1999 г. был принят Закон КНР «О договорах» [4, 1]. Данный закон включает общую и особенную части. Общая часть содержит нормы о заключении, действительности, исполнении, изменении договора и передаче прав, прекращении обязательств и ответственности за нарушение договора. В особенной же части содержатся нормы об отдельных видах договоров. Договору финансовой аренды (лизинга) в Законе КНР «О договорах» посвящена отдельная глава 14, именуемая «Финансовая аренда». Следует отметить, что это отдельная глава, регулирует только лизинговые отношения. В законодательстве РФ, где нормы о договоре аренды закреплены в главе 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1, 2].
В ГК РФ и Законе КНР «О договорах» содержатся определения понятия «договора финансовой аренды (лизинга)», которые в целом совпадают. Так, в соответствии со ст. 665 ГК РФ «по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование». Статья 237 Закона КНР гласит: «по договору финансовой аренды арендодатель приобретает у определенного арендатором продавца указанный арендатором предмет аренды и передает его арендатору в пользование, а арендатор вносит арендную плату».
В приведенном выше определении договора лизинга по законодательству Китая содержатся его основные элементы, однако, для полного представления о нем следует учитывать норму ст. 238 Закона «О договорах» КНР. Она говорит о том, что в содержание договора финансовой аренды входят условия о наименовании предмета аренды, количестве, стандартах, технических характеристиках, способах проверки, сроке аренды, порядке, сроках и способах внесения арендной платы, валюте, о принадлежности предмета аренды по истечении срока договора и т. д.[23] Указание перечисленных условий договора может породить мнение, что они обязательны для заключения договора лизинга. В Законе КНР «О договорах» отсутствует определение существенных условий договора. Ст. 12, включенная в общую часть указанного правового акта, лишь содержит условия, которые могут включаться в любой договор: наименования (имена) и местонахождение сторон; предмет договора; количество; качество; цена или оплата; срок, место, способ исполнения; ответственность за нарушение договора; способ разрешения споров.
В отличие от китайского законодательства в ст. 432 ГК РФ определено, что «существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». Так, в законодательстве Российской Федерации действует общее правило, что существенным условием любого договора, является его предмет. В частности, касаясь договора финансовой аренды, ст. 15 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)» устанавливает, что «в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга» [2,3]. При отсутствии таких данных о предмете лизинга договор не считается заключенным. Таким образом, в целом невозможно заключить ни один договор без определения того, что является его предметом. Нельзя заключить договор лизинга, если между лизингодателем и лизингополучателем не достигнуто соглашение о том, какие предметы будут предоставлены во временное владение и пользование. Следует полагать, что и в китайском законодательстве условия о предмете договора будут существенными, и что, остальные условия договора, перечисленные в ст. 12 Закона КНР «О договорах», устанавливаются как ориентиры для решения вопроса о том, какие условия должны включаться в договор. Это касается и условий договора финансовой аренды, содержащихся в ст. 238 названного правового акта. Содержание договора устанавливается сторонами, и они могут заключить договор в соответствии с моделью той или иной разновидности договора, включенной в упомянутый закон КНР. Поэтому помимо условий, указанных в общей части Закона «О договорах» КНР, участники договора лизинга, могут достичь соглашения о том, чтобы договор содержал условия, названные в ст. 238 Закона «О договорах» КНР. Так, условия, установленные ст. ст. 12 и 238 обозначенного закона, кроме условий о предмете договора, желательны для его заключения.
Помимо перечисленных выше условий несущественными будут и такие условия, которые определяются с помощью положений ст. 61 Закона «О договорах» КНР. Данная статья устанавливает, что «если вступивший в силу договор не содержит условий о качестве, цене или оплате, месте исполнения и т. д. либо если эти условия четко не определены, стороны могут путем переговоров внести в договор дополнения; если невозможно сделать это путем переговоров, то вопросы решаются согласно соответствующим условиям договора, либо обычаям торгового оборота». А если стороны не смогли достичь определенности в соответствии с положениями ст. 61, то применению подлежит норма ст. 62 Закона «О договорах» КНР, которая содержит правила на случай неясности условий договора о качестве, цене или оплате, месте исполнения, сроке, способе исполнения и распределении расходов по исполнению. Например, в главе 14 Закона КНР, регулирующей лизинговые отношения, отсутствует точное определение срока действия договора. Данное условие договора лизинга участники определяют самостоятельно. В случаях, если вступивший в силу договор не содержит условий о сроке, либо если эти условия четко не определены, будет действовать норма ст. 61 Закона КНР. Если стороны не смогли достичь ясности согласно положениям данной нормы, то будет действовать п. 4 ст. 62 Закона «О договорах» КНР: «должник может исполнить обязательство в любое время, а кредитор тоже может потребовать исполнения в любое время, однако следует предоставить другой стороне необходимое время для подготовки». По российскому же законодательству к договору лизинга применяются общие положения о договоре аренды (гл. 34 ГК РФ). И если срок действия договора финансовой аренды не определен, то применяются общие нормы о сроке договора аренды. Согласно ст. 610 ГК РФ в случае неясности условия о сроке договора «договор аренды считается заключенным на неопределенный срок». Кроме того, «законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов имущества. В этих случаях, в соответствии с п.3 ст. 610 ГК РФ, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается».
По законодательству России и Китая, собственником имущества, подлежащего передаче в лизинг, признается арендодатель. Ст. 19 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)» говорит о том, что стороны могут предусмотреть в договоре переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя по истечении срока договора или до истечения срока на предусмотренных договором условиях. В Китае право собственности на предмет лизинга переходит к арендатору по истечении срока договора, а если такое условие отсутствует в договоре либо четко не определено и его нельзя установить, то право собственности на предмет договора сохраняется за арендодателем (ст. 250 Закона «О договорах» КНР).
По общему правилу, арендодатель не несет ответственность перед арендатором, если предмет аренды не соответствует договору или целям использования (ст. 244 Закона «О договорах» КНР). Но он несет ответственность в случае, когда предложил арендатору технические характеристики предмета аренды либо когда вмешался в выбор предмета аренды. В связи с этим, можно предположить, что в таком случае арендатор имеет права требования, вытекающие из договора купли-продажи, как к продавцу, так и к арендодателю. На такой вывод наталкивает норма ст. 239 Закона КНР, в которой говорится, что арендатор обладает соответствующими правами покупателя в отношении полученного предмета аренды. Например, арендатор вправе предъявлять требования в отношении качества и комплектности имущества. Кроме того, арендодатель, продавец, арендатор могут условиться о том, что в случае неисполнения продавцом обязательств по договору купли-продажи арендатор приобретает право требовать возмещения издержек (ст. 240 Закона КНР). В Российской Федерации ответственность арендодателя перед арендатором регулируется схожим образом. В соответствии со ст. 670 ГК РФ «арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе». В последнем случае арендатор вправе предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу, так и арендодателю.
Так, рассмотрев основные положения договора финансовой аренды (лизинга) по российскому и китайскому праву, можно прийти к заключению, что, несмотря на разные социально-экономические условия рассматриваемых государств, правовое регулирование лизинговых отношений осуществляется в целом одинаково.
Литература:
1. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья, четвертая. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 544 с.
2. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 01.01.2001г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 44. Ст. 5394.
3. Общие положения гражданского права Китайской Народной Республики: [Приняты на 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 12 апреля 1986г.]: [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://*****.- Загл. с экрана.
4. Закон Китайской Народной Республики «О договорах»: [Принят 2-й сессией ВСНП девятого созыва 15 марта 1999 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://*****.- Загл. с экрана.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И КИТАЯ
Россия, г. Улан-Удэ
В условиях развития современного общества проблема признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим стала особенно актуальной, поскольку ежегодно исчезает огромное количество граждан в разных странах. Военные действия, локальные конфликты, стихийные бедствия, а также криминогенная обстановка в государствах способствуют росту данных показателей.
Несмотря на долгий период существования, институт «признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим» является недостаточно изученным, особенно в сравнительном аспекте с законодательством других стран.
Институт признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим имеет материальное и процессуальное законодательное регулирование как в России, так и Китае.
Как известно, основной целью института признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим является защита интересов заявителей и заинтересованных лиц.
Рассматривая «признание гражданина безвестно отсутствующим», в первую очередь, следует изучить его материальную основу. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 42 определяет, что «гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания» [1, c. 42], то есть закон различает два понятия «место жительства» и «место пребывания».
Место жительства гражданина, в соответствии с российским законодательством - это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома, а также иное жилье, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ [3, c. 2]. «Место пребывание», в свою очередь, определяется как «гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает временно» [3, c. 2].
Общие положения гражданского права Китая закрепляют в статье 20 следующее определение признания гражданина безвестно отсутствующим: «если место пребывания гражданина неизвестно в течение двух лет, заинтересованное лицо может обратиться в народный суд для объявления его безвестно отсутствующим», то есть основополагающим является только одно понятие - «место пребывания» [4, c.20].
Из сравнения определений «безвестно отсутствующий гражданин» в материальном праве Китая и России прослеживается существенная разница. Так, в ГК РФ уточняется: «Где? В каком месте?» отсутствуют сведения о месте пребывания гражданина. В Общих положениях гражданского права КНР такого разграничения нет, поэтому круг лиц, в отношении которых может возбуждаться производство в суде является более широким, нежели чем в России.
Если рассмотреть исследуемую проблему с процессуальной стороны, то гражданско-процессуальное законодательство Китая закрепляет, что «заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим, место пребывания которого неизвестно на протяжении полных двух лет, подается заинтересованным лицом в народный суд основной ступени по месту жительства лица, место пребывания которого неизвестно». [5, c. 166]. Процессуальный закон, проводя градацию между ними, привязывает отсутствующего гражданина к месту его жительства, тем самым облегчает деятельность народного суда по рассмотрению данной категории дел.
Для подачи заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим, необходим определенный временной промежуток, в течение которого местопребывание гражданина неизвестно, то есть указанный срок является необходимым фактом для данной категории дел. В Китае и в России он имеет существенную разницу. Так, в России с момента исчезновения гражданина должен пройти один год, а в Китае - два года.
Думается, что срок в два года является слишком «затянутым», так как с учетом процессуальной стороны рассмотрения дела о признании гражданина безвестно отсутствующим, временной промежуток неопределенности имущественных и личных неимущественных отношений будет составлять в среднем около двух с половиной лет.
Существенным отличием и преимуществом ГК России является определение начала исчисления срока для признания гражданина безвестно отсутствующим, при невозможности установить день получения последних сведений о нем. В Общих положениях гражданского права Китая отсутствуют подобные нормы, а процессуальный закон, закрепляя положение о сроке по истечению, которого может быть подано заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим, определяет «полноту» происшедших двух лет. Таким образом, ситуация, при которой невозможно установить день получения последних сведений об отсутствующем, вызовет затруднения правоприменительных органов Китая. Считаю, что не урегулирование вопроса о начала исчисления срока для признания гражданина безвестно отсутствующим, при невозможности установить день получения последних сведений о нем, является упущением китайского законодателя.
Еще одной особенностью китайского права является норма, закрепляющая следующее правило: «Если местопребывание неизвестно в период военных действий, срок безвестного отсутствия гражданина исчисляется со дня окончания военных действий» [4, c. 20]. То есть срок отсутствия гражданина для признания его безвестно отсутствующим составляет два года с момента окончания военных действий. По законодательству Российской Федерации аналогичный срок отсутствия будет служить основанием для признания гражданина умершим. Отдельных положений и сроков для признания гражданина безвестно отсутствующим в Гражданском кодексе России в связи с военными действиями нет. Считаю, данную ситуацию пробелом права Российской Федерации, и необходимо внесение поправок в Гражданский кодекс России.
Одной из важнейших функцией рассматриваемого института является стабилизация имущественных отношений. Имущество отсутствующего гражданина необходимо содержать, управлять им, кредиторская и дебиторская задолженности нуждаются в погашении, но, в отсутствии лица, имеющего права на указанную деятельность, возникает проблема исполнения вышеперечисленных обязанностей.
Разрешение имущественного вопроса в законодательстве исследуемых стран различно. Например, в Российской Федерации «имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора управления, заключаемого с этим органом» [1, c. 43]. В данном случае прослеживается надлежащая защита имущества гражданина со стороны государства путем привлечения органа опеки и попечительства и суда для решения вопроса управления имуществом гражданина. Кроме того, у лица, осуществляющего полномочия по договору доверительного управления возникает гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ко всему прочему, у органа опеки и попечительства имеется право и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. Данное положение является еще одной гарантией для имущественных прав граждан со стороны государства.
В законодательстве Китая указанная проблема разрешается путем передачи имущества безвестно отсутствующего гражданина «…его супруге, родителям, совершеннолетним детям или другим близким родственникам, друзьям. В случае возникновения спора в отношении переданного имущества, а также в случае отсутствия указанных выше лиц или невозможности с их стороны заниматься имущественными вопросами, имущество передается лицу, определяемому народным судом» [4, c. 21]. В данном случае законы Китая превыше всего ставят родственные и дружеские отношения, не забывая при этом об экономической стороне вопроса. Таким образом, имущественные гражданские отношения в большей степени зависят от семейных правоотношений. Субъектом передачи имущества является народный суд, органы опеки данными вопросами не занимаются, из чего следует, что сокращенный срок передачи имущества в китайском законодательстве не предусматривается. Считаю, что имущество, при неопределенном положении, в течение двух лет может придти в негодность, поэтому китайским законодателям следует подумать о гарантиях безвестно отсутствующим лицам в поднятой проблеме.
Рассмотрев материальную сторону института «признания гражданина безвестно отсутствующим», следует перейти к процессуальным аспектам законодательства анализируемых государств.
Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим, рассматриваются в порядке особого производства как в судопроизводстве России, так и Китая. Но сама процедура разбирательства имеет существенные различия, начиная с подсудности. Так, при определении подсудности дел данной категории в России, за основу взят принцип подачи заявления по месту жительства или месту пребывания заинтересованного лица. В Китае же действует принцип подачи заявления заинтересованным лицом в народный суд по месту жительства гражданина, место пребывания которого неизвестно.
Правило подсудности указанной категории дел в Российской Федерации в большей степени защищает интересы заинтересованного лица, что в некоторых случаях ведет к затягиванию процессуальных сроков из-за многочисленных судебных поручений. Определение подсудности по гражданскому процессуальному законодательству Китая, наоборот, облегчает работу суда при рассмотрении исследуемой категории дел, так как в месте жительства отсутствующего лица гораздо легче разрешить дело по существу и собрать необходимые доказательства. Поэтому нашему законодателю следует задуматься о возможности процессуальной экономии для данной категории дел.
Исследуя заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим, следует отметить, что подаваемое в народный суд Китая заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим должно содержать обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие, время безвестного отсутствия и цель обращения заинтересованного лица. К заявлению в обязательном порядке должны прилагаться письменные свидетельства органов общественной безопасности или иных компетентных органов об отсутствии сведений о месте пребывания данного гражданина. То есть заинтересованное лицо должно собрать достаточное количество доказательств по делу. В заявлении с одноименным названием, подаваемом в суды Российской Федерации, указываются те же составляющие, за исключением прилагаемых документов. По законодательству России запросы в органы внутренних дел, воинские части и иные структуры производятся непосредственно судом при подготовке дела к судебному разбирательству. Полагаю, что для России данные положения являются наиболее оптимальными, так как судебные запросы и поручения исполняются на порядок быстрее и организованнее нежели, чем запросы граждан.
Из содержания заявления следует порядок рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим. В законодательстве исследуемых государств он также различен. Если в Российской Федерации действуют правила искового производства с некоторыми изъятиями, то в Китае существует следующая процедура. Народный суд после принятия к рассмотрению дела о признании безвестно отсутствующим издает публичное объявление о розыске лица, место пребывания которого неизвестно. Срок действия публичного объявления составляет три месяца. По истечении срока действия публичного объявления народный суд, основываясь на достоверности фактов по делу о признании безвестно отсутствующим, выносит решение о признании безвестно отсутствующим либо решение об отклонении заявления.
Сравнение материального и некоторых аспектов процессуального законодательства России и Китая о признании гражданина безвестно отсутствующим показало, что в каждой из стран исследуемый институт действует со своими специфическими особенностями, присущими только ей, в которых можно найти как положительные, так и отрицательные моменты, при этом основная база рассматриваемого института является схожей, поэтому в данной исследовании не ставилась цель выявления наиболее приоритетной модели.
Литература:
1. Гражданский кодекс РФ часть 1: Федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 01.01.2001 // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532.
3. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 01.01.2001 N 5242-1//"Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, N 32, ст. 1227.
4. Общие положения гражданского права КНР: приняты на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 12 апреля 1986 г. [Электронный ресурс] // URL: http://*****.
5. Гражданский процессуальный кодекс КНР: принят на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 7-го созыва 9 апреля 1991 г. [Электронный ресурс] // URL: http://*****.
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ В КИТАЕ
Россия, г. Владивосток
Старинные традиции и обычаи прочно вошли в жизнь современного Китая, стали её неотъемлемой частью, связывающей многие поколения людей незримой нитью преемственности. Китай – государство с уникальными традициями, сложившимися в течение не одного столетия, главным образом, под влиянием учения Конфуция. Непререкаемый авторитет этого учения пережил в китайском обществе века, поскольку имеет своим основным постулатом идею гармонии как главного условия всеобщего порядка, равновесия в мире, а следовательно, и счастья людей. Средством поддержания такого всеобщего порядка, согласно учению Конфуция, является не закон, а соблюдение традиций, под которыми понимаются поддерживаемые не юридическими установлениями, а силой общественного мнения формы передачи сложившихся идеологических отношений от одного поколения к другому. Для понимания сущности традиций важно наличие некоего положительного жизненного опыта — способа удовлетворения потребности, поддержания жизни индивидов. Не будь этого опыта, нечему было бы становиться традиционным. Следовательно, базисным качеством человека в плане возникновения традиций является его восприимчивость к опыту других. Иными словами, традиционное — это то, что принято одним поколением и передается к другому поколению.
Существует множество видов традиции. Можно выделить такие разновидности традиций, как политические традиции, религиозные традиции, экономические традиции, социологические традиции, семейные традиции и другие.
Наиболее контрастно традиции проявляются в жизни китайской семьи. Согласно старым суеверным взглядам китайцев, чтобы обеспечить себе спокойное существование, глава семьи должен заботиться о непрерывности своего рода. Ему необходимо иметь сына, желательно при жизни видеть его женатым и даже имеющим своих детей, а если возможно, то и правнуков. В этом заключалась цель брачного союза. В настоящее время желание китайских семей иметь сына, наследника продолжает существовать. Молодые семьи, учитывая законодательно закрепленное ограничение иметь одного ребенка в семье, тщательно планирует рождение первенца и, несомненно, мальчика. Именно поэтому в Китае количество мужчин превышает число женщин. На каждые 100 женщин приходится 106 мужчин [1]. Своеобразное подтверждение этому было получено нами в результате проведенного анкетирования китайских студентов, обучающихся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Среди студентов 4 курса специальностей «мировая экономика» и «коммерческая деятельность», у которых проводилось анкетирование, было 238 китайских студентов, из них 106 девушек и 132 молодых человека.
Традиционно в Китае статус женщин на протяжении многих веков был низким. С течением времени ситуация в Китае меняется в пользу женщин. Один из показателей меняющегося социального положения женщин - расширение их участия в политической жизни страны. Увеличилось представительство женщин во Всекитайском собрании народных представителей. В последние годы возрастает количество женщин, вступающих в партию. В соответствии с наследственным правом женщина становится полноправным наследником наравне с мужчиной. Особая роль отводится женщинам в создании семьи нового типа и планировании рождаемости [2]. Поздний брак, поздние роды, малочисленные семьи, одинаковое отношение к рождению детей обоих полов - именно такую модель семейных отношений пропагандирует государство. В подтверждение вышесказанного можно привести результаты проведенного анкетирования. Студентам был предложен вопрос: «Что необходимо сделать для того, чтобы получить женщине фактическое равенство с мужчиной?» Большинство опрошенных, а если точнее 185 человек, ответили, что ничего предпринимать не нужно, потому что фактическое равенство между мужчиной и женщиной уже существует в Китае.
Традиция строгого повиновения старшим считалась одной из важных основ социального порядка по Конфуцию. В феодальном Китае вся китайская нация рассматривалась как одна большая семья, отцом и матерью которой был император. Все подданные этого большого семейства должны были проявлять к императору сыновью любовь и почтительность. С самого раннего детства китаец приучался верить, что отеческая власть принадлежит как главе малого семейства, т. е. отцу, так и главе большой семьи, т. е. императору [3]. Эта традиция сохранилась и в современных китайских семьях. Традиция воспитания, подчинения и уважения к старшим прививается с детства и является обязательной как дома, в школе, в обществе, так и на работе. И если обратить внимание на результаты проведенного анкетирования, то сказанное выше всецело подтверждается. Китайским студентам был задан вопрос: «Чье мнение для вас наиболее важное?» Большинство опрошенных, а именно 161 человек, ответили, что самым важным является мнение родителей, для 59 человек важнее собственное мнение, а 18 студентов считают главнейшим мнение руководителей своего государства. Никто из опрошенных студентов не считает значимым мнение своих друзей и соседей.
Разрешение семейных споров между супругами в Китае, равно как и отношение к разрешению семейных споров также основано на традиционных началах. Старшее поколение преимущественно обращалось к примирительным комиссиям и не часто обращалось к суду, и это было традиционное поведение населения Китая. Современная китайская молодежь кардинально изменила отношение к судебной системе в сторону доверия и обращения к суду в случае возникновения спорных семейных ситуаций для их разрешения. Подтверждением опять же являются результаты проведенного опроса. Вопрос анкеты звучал так: «Какой способ является самым лучшим для разрешения семейных споров между китайцами?» Большинство опрошенных, а именно 127 человек ответили, что это обращение в суд, 52 человека считают обращение в народные примирительные комиссии самым лучшим способом разрешения споров, а 59 человек наилучшим способом разрешения спорных ситуаций видят проведение переговоров между спорящими сторонами.
Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что на семейные отношения в современном Китае огромное влияние оказывают семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Конечно, нельзя не отметить, что современная китайская молодежь внесла свои изменения в развитие семейных традиций, которые существенно изменяются под влиянием взглядов на семейные отношения современной китайской молодежи.
Литература:
1. Традиции и современность Китая. [Электронный ресурс] Режим доступа: www. gkroling. *****/china/family. html
2. Васильев , религии, традиции в Китае / – М.: Наука, 1974.
3. Три капельки воды / В. Попов // Знамя. – 2001. - №10.
ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ
КНР, г. Пекин
В связи с активизацией сотрудничества и товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, заключением большого количества контрактов, соответственно растет количество споров между сторонами, их обращений в арбитраж. В настоящий момент возникает большая потребность в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений на территории Китая.
Однако в большинстве случаев судебные органы Китая при рассмотрении дел с иностранным элементом не могут правильно использовать и толковать Нью-Йоркскую конвенцию от 01.01.2001 «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (далее – «Нью-Йоркская конвенция») [1]. Существуют следующие проблемы в практике признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, которые необходимо разрешать в срочном порядке.
1. Безосновательные отказы в принятии народными судами Китая к рассмотрению дел о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. В деле Revpower Ltd. против Shaghai Far East Aerial Technology Import and Export Corporation (далее – «дело Revpower») [2] народный суд города Шанхая средней ступени отказал в принятии заявления об исполнении арбитражного решения. Из данного дела следует, что американская компания в июне 1991 года обратилась для рассмотрения спора в Арбитражную комиссию при Торговой палате Стокгольма, требуя от китайской компании возмещения убытков за нарушение договора. В июле 1993 года Арбитражная комиссия Стокгольма вынесла решение в пользу американской компании. По причине отказа китайской стороны в добровольном исполнении данного решения американская компания в декабре 1993 года обратилась с заявлением в суд города Шанхая средней ступени, требуя от суда принудительно исполнить данное решение. Однако, суд города Шанхая средней ступени, не указав каких-либо оснований, отказал в принятии заявления американской компании.
2. Медлительность процедуры признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений. Иностранные компании, ведущие торговую деятельность с Китаем на протяжении длительного времени, в большинстве своем выражают недовольство, когда затягивается исполнение иностранного арбитражного решения в Китае.
Например, по делу Nautilus Transport and Trading Co., Ltd. (HK) и China Jilin Province International Economic and Trade Development Corporation (China) истцом было затрачено два с половиной года на принудительное исполнение иностранного арбитражного решения [3].
В деле Revpower по причине очень долгого затягивания исполнения иностранного решения, председатель правления компании Revpower Ltd. господин Роберт Аронсон (Robert Aronson) даже полагал, что согласие Китая на исполнение иностранных арбитражных решений существует как «фикция» [4].
3. Ошибки в применении права. В упомянутом деле Revpower суд города Шанхая средней ступени ошибочно применил право Китая в качестве права, регулирующего вопросы арбитражного соглашения, однако в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Нью-Йоркской конвенции, правом, регулирующим арбитражное соглашение сторон, является право Швеции.
Например, в деле S&H Foodstuff Trading GmbH (Germany) против Xiamen Lianfa Import&Export Corporation (China) (далее - «дело S&H») [5] суд города Сямэнь средней ступени ошибочно применил право Китая для определения действительности арбитражного соглашения. В свою очередь, подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Нью-Йоркской конвенции в отношении права, применимого к арбитражному процессу и образованию состава арбитража, четко установил единую коллизионную норму, а именно применимым правом должно быть право, согласованное сторонами, а при отсутствии такого согласования таким правом является право государства проведения арбитража.
Для понимания и разрешения вышеприведенных проблем необходимо проанализировать их происхождение.
Во-первых, в Китае правила процедуры принудительного исполнения арбитражного решения чрезмерно просты. Некоторые нормативно-правовые акты в отношении вопросов признания и приведения в исполнение иностранных решений не имеют соответствующего правила регулирования.
Например, Гражданский процессуальный кодекс КНР от 01.01.2001 года в редакции от 01.01.2001 года (далее – «ГПК КНР») [6] четко не определил правила, предусматривающие срок для выдвижения возражений ответчиком против заявления истца об исполнении иностранного арбитражного решения, а также срок ответа истца на возражения ответчика.
В отношении иных вопросов исполнительного производства законодательство Китая выглядит однообразным и шаблонным. Например, в соответствии со статьей 5 Нью-Йоркской конвенции и статьями 34, 36 «Типового закона» ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, принятого 21.06.1985 Комиссией ООН по праву международной торговле (далее – «Типовой закон») [7] при наличии недостатков в иностранном арбитражном решении Нью-Йоркская конвенция и Типовой закон не требуют от суда обязательности отказать в признании и приведении в исполнение такого решения. При этом формулировка, используемая в Нью-Йоркской конвенции или Типовом законе, гласит «можно», но не «должно». В этой связи суд, рассмотрев конкретные обстоятельства, имеет свободу принятия решения признавать и исполнять иностранное арбитражное решение или нет, в этом отображается соответствующая эластичность законодательства.
Однако законодательство Китая идет в обратном направлении, а именно лишило народный суд свободы принятия решения в отношении признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного решения.
Например, в уведомлении Верховного Народного Суда Китая от 01.01.2001 года «Об исполнении Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, к которой присоединился Китай» [8] установлено, что если народный суд Китая посчитает, что в иностранном арбитражном решении содержится одно из обстоятельств, перечисленных в пункте 2 статьи 5 Нью-Йоркской конвенции, или в соответствии с доказательствами, предоставленными ответчиком по исполнительному производству, будет иметь место одно из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 5 Нью-Йоркской конвенции, то данный суд должен вынести определение о возврате заявления, отказе в признании и приведении в исполнение». Из этого следует, что Верховный Народный Суд Китая слово «можно», указанное в статье 5 Нью-Йоркской конвенции поменял на «должен», поменялась лексика с разрешительного характера на обязательный характер [9]. Разница в одном слове не только исказила цель правовых норм Нью-Йоркской конвенции, но и серьезно причинила вред качеству признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в Китае.
Во-вторых, судьи некоторых народных судов в отношении международного коммерческого арбитража имеют недостаточные знания и квалификацию в области применения права в отношении действительности арбитражного соглашения, правильности проведения арбитражного процесса, о чем было изложено в вышеприведенных делах.
В-третьих, имеет место территориальный протекционизм, административное вмешательство в рассмотрение дел о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений серьезно влияет на справедливое принятие таких решений народными судами, что привело в определенной степени к невозможности осуществлять надзор народными судами над исполнительным процессом в соответствии с законодательством Китая [10].
Автор считает, что для разрешения вышеперечисленных проблем и вопросов необходимо предпринять следующие действия.
Во-первых, разработать более конкретные правила признания и принудительного исполнения иностранных арбитражных решений. В настоящий момент в Китае в отношении признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений существует система предварительного информирования [11], в рамках которой осуществляется контроль за ошибочными отказами в признании и приведении в исполнение данных решений. Однако такая система была закреплена только в судебных разъяснениях [12], и соответственно является переходным этапом.
По мере непрерывного накопления народными судами Китая опыта признания и исполнения иностранных арбитражных решений способ в форме предварительного информирования, закрепленный судебными разъяснениями, будет недостаточным для заполнения пробелов в вышеописанной области законодательства Китая.
Некоторые ученые считают, что должны быть созданы отдельные нормы, регулирующие приведение в исполнение арбитражных решений [14]. Автор считает, что преобразование принудительного исполнения арбитражного решения в отдельное законодательство не получит поддержки на законодательном уровне, так как принудительное исполнение арбитражного решения и принудительное исполнение судебного решения, несмотря на то, что имеют различия в отношении субъектов, процедур и мер принудительного исполнения, все равно принадлежат к одной категории принудительного исполнения.
В настоящее время Верховный Народный Суд разрабатывает единый Закон «О принудительном исполнении», до сегодняшнего дня проект Закона «О принудительном исполнении» неоднократно менялся.
Закон «О принудительном исполнении» сыграет определенную роль в совершенстве законодательства Китая в сфере признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений. Его нормы, касающиеся процедуры исполнения иностранных арбитражных решений, в определенной степени разрешат проблему отсутствия правил регулирования в данной области законодательства. В то же время, автор обращает внимание на то, что данный нормативно-правовой акт будет являться законом с широкой сферой применения, занимающим высокую позицию в общегосударственном регулировании. Необходимо добавить, что в проекте данного закона предусмотрены общие моменты признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, поэтому, принимая во внимание законодательную практику Китая, после опубликования Закона «О принудительном исполнении» будут разработаны и приняты более конкретные нормы в форме «подробных правил применения».
Судебные разъяснения в области признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений представляют собой относительно простые нормативные документы, которые могут сыграть активную роль в заполнении пробелов в законодательстве. Верховный Народный Суд Китая для правильного рассмотрения народными судами дел с иностранным элементом в соответствии с положениями Нью-Йоркской конвенции, ГПК КНР, Закона КНР «Об арбитраже» и Закона КНР «О договорах» в настоящее время подготавливает и разрабатывает «Некоторые положения Верховного Народного Суда о рассмотрении народными судами дел, связанных с иностранным арбитражем». До настоящего времени выпущен проект опроса мнений в отношении данных положений.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |




