Как заработать свои первые деньги?
Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи
· ФЗ «О беженцах» от 01.01.2001 г. № 000-1.
Данные законы устанавливают основания законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Неисполнение требований правил нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства (проживание без документов на право на жительство в РФ, проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации либо передвижения и т. д.) предусматривает наложение на иностранного гражданина или лицо без гражданства административного принуждения, которое заключается в принудительном и контролируемом перемещении иностранного гражданина за пределы РФ либо в контролируемом самостоятельном выезде такого лица из РФ [2].

Практика и опыт регулирования общественных отношений между государством и иностранным гражданином имеются как у России, так и у Китая. При этом, помня об особенностях исторического развития, геополитического положения, а также современного социально-экономического развития обеих стран [6, c.173], необходимо рассмотреть процедуры административного выдворения и депортации, устанавливаемые для иностранных граждан в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Для начала необходимо определиться с пониманием терминов депортации и административного выдворения, а также соотнести эти понятия.
По смыслу ст. ст. 2, 31 и 34 Закона "О правовом положении иностранных граждан" под депортацией понимается принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации [7].
считает, что депортация не является видом административного наказания, применяемого к иностранным гражданам (лицам без гражданства). Это особый инструмент государственного принуждения, применение которого, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности и охрану здоровья иных граждан. Для применения депортации в отношении иностранного гражданина (лица без гражданства) наличие события правонарушения необязательно. По общему смыслу существующего законодательства основанием для депортации служит само пребывание иностранного гражданина в государстве, создающее угрозу, как всему обществу, так и отдельным его членам [5].
Российское административное законодательство относит административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства к мерам административной ответственности и определяет, что административное выдворение представляет собой принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы территории Российской Федерации по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.
делает вывод, что основанием применения административного выдворения, как вида административного наказания является административное правонарушение [5]. Составы административных правонарушений, совершение которых влечет вынесение постановления об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, содержит Кодекс об административных правонарушениях РФ [3].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что административное выдворение и депортация представляют собой специальные средства государственного принуждения: первое является мерой административного наказания и применяется только за совершенное административное правонарушение; второе есть разновидность мер защиты, применяемых исключительно по отношению к иностранным гражданам в случаях, предусмотренных законом в интересах национальной безопасности, общественного благополучия и здоровья.
Безусловно, понятия депортации и административного выдворения очень схожи, тем не менее, они имеют ряд существенных отличий как по нормативной правовой основе применения, по субъектному составу, органам, принимающим решение и органам, на которых возложено исполнение такого решения.
В соответствии со статьями 2, 31 и 34 Закона о правовом положении иностранных граждан административное выдворение представляется более широким, поскольку оно предполагает как депортацию - принудительную высылку, так и добровольное исполнение акта выдворения под контролем уполномоченных на то должностных лиц. Кроме того, субъектами депортации могут быть только иностранные граждане, в то время как под административное выдворение подпадают и лица без гражданства [7].
Правовой статус иностранца на территории КНР закрепляется рядом нормативно-правовых актов. К основным относятся: Конституция КНР 1982 г., закон КНР «О гражданстве» 1980 г., закон КНР «О порядке въезда в страну и выезда из страны иностранцев» 1985 г. и др. Кроме внутреннего законодательства Китая, правовое положение иностранцев в КНР определяют международные договоры, заключенные с другими странами. Так, например, режим пребывания российского гражданина в Китае устанавливает помимо актов КНР Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1992 г.
Стоит заметить, что в области правового регулирования положения иностранных граждан современный Китай во многом имеет сходные черты с СССР до 1982 г., поскольку, так же как и в Советском Союзе, на данный момент в Китае нет единого координирующего акта о правовом статусе иностранцев, действуют Конституция, закон о въезде и выезде и др. Это обусловлено тем, что структура современного китайского законодательства характеризуется неравномерностью в разработанности различных отраслей.
Действующие нормы в законодательстве Китая позволяют сделать вывод об установлении национального режима в отношении иностранцев в Китае [6, c. 174].
Ст. 32 Основного закона КНР отмечает, что Китайская народная Республика охраняет законные права и интересы иностранцев, находящихся в Китае; находящиеся в Китае иностранцы должны соблюдать законы Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика может предоставить право убежища иностранцам, вынужденным эмигрировать по политическим причинам [12].
Анализируя ряд других нормативно-правовых актов Китая, например, законы КНР «О гражданстве» 1980 г., «О порядке въезда в страну и выезда из страны иностранцев» 1985 г. и др., можно сделать вывод о том, что данные законы так же, как и в РФ, устанавливают основания законности нахождения иностранных граждан на территории КНР.
Согласно Главе VII Закона КНР «О порядке въезда в страну и выезда из страны иностранцев» 1985 г. нарушение требований правил нахождения иностранных граждан в Китае (незаконный въезд в страну, выезд из страны, проживание и пребывание на территории Китая, посещение без действительных документов районов Китая, закрытых для иностранцев, а также въезд в страну и выезд из страны по поддельным и исправленным документам, передача документов другим лицам и использование документов других лиц) влечет за собой наложение на иностранного гражданина административного взыскания в виде предупреждения, денежного штрафа или задержания на срок до 10 суток и др.
В ст. 30 той же главы закона о въезде и выезде КНР говорится, что если обстоятельства действий, предусмотренных ст. 29 Закона о въезде и выезде КНР (а именно, незаконный въезд в страну, выезд из страны, проживание и пребывание на территории Китая, посещение без действительных документов районов Китая, закрытых для иностранцев, а также въезд в страну и выезд из страны по поддельным и исправленным документам, передача документов другим лицам и использование документов других лиц и др.), достаточно серьезны, органы общественной безопасности могут применить в отношении лица взыскание в виде выезда из страны в ограниченные сроки либо выдворения из страны [13].
Однако в вышеперечисленных законах (а именно, в законе КНР «О гражданстве», в законе «О порядке въезда в страну и выезда из страны иностранцев») нет ни понятия процедур выдворения и депортации, ни самой регламентации действии при проведении этих мероприятий.
В заключение данной статьи необходимо отметить следующее: правовое регулирование пребывания, проживания иностранных граждан в России и Китае не идентично, хотя в целом можно утверждать, что правовые режимы для иностранцев в РФ и КНР сходны. Стоит отметить, что степень урегулированности отношений между иностранными гражданами и государством неравнозначна. Так, в РФ действует разработанная система нормативно-правовых актов, центральным звеном которой является федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 01.01.2001 г. . В Китае же нет единого нормативного акта, устанавливающего основы правового статуса иностранцев, действуют разрозненные нормы различных законов, подзаконных актов, формирующие режим нахождения в КНР указанных лиц. Вышеизложенное может сподвигнуть китайского законодателя использовать российский опыт в регулировании правового положения, режимов для иностранцев [6, c.176].
Литература:
1. Горбунова миграция как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Миграционное право. – 2009. - № 5. – С.15.
2. Европейский совет по делам беженцев и изгнанников (ECRE). Международная конференция, Мукачево, Украина, 7.06.2004 г.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 01.01.2001 (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 01.01.2001) (с изм. и доп., вступающими в силу с 21.11.2010)
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001 г. )
5. Лукьянов выдворение и депортация в системе административно-правовых методов миграционной политики России. // Российская юстиция, - 2009. (URL: http://www. *****/section_12.html, дата обращения: 3.04.2011).
6. Тышкенова -правовое исследование моделей правового статуса иностранных граждан в России и Китае // Вестник БГУ. – 2009. - № 2. – С.172-176.
7. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 01.01.2001 г.
8. URL: http://*****/constitutional_law/constitution (дата обращения: 3.Законодательство Китая. Окно в Китай (консалтинговая группа).
9. URL: http://www. ***** (дата обращения: 3.04.2011). Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Россия, г. Чита
Понятие права собственности возникло не сразу, а постепенно формировалось в рамках развития исторического процесса. Как отмечает , «конечно, уже в психике примитивного человека свойственно чувство, что вещь, добытая или сделанная им (например, убитая дичь, пойманная рыба, сделанное оружие и т. д.), принадлежит ему; конечно, всякое посягательство на эту вещь будет ощущаться им как некоторая обида по его адресу и будет вызывать соответствующую реакцию» [4, с. 192]. Собственности как правовому институту всегда отводилось центральное место в системе вещных прав. В данной работе предлагается проанализировать конституционное закрепление форм собственности на основании положений Конституции РФ [2] и Конституции Монголии [1].
Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации, в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Основным законом страны провозглашено равенство всех форм собственности и равная их защита. Какие-либо привилегии или ограничения для тех или иных форм собственности не допускаются.
В отношении Монголии следует указать, что как отмечает , «монгольское право интересно прежде всего само по себе, как проявление правового творчества народа, оставившего заметный след в истории народов двух частей света – Азии и Европы» [3, с. 3]. указывает, что «первой попыткой дать на русский язык систематический очерк монгольского права была работа автора «Обычное право монгольских племен», напечатанная в Вестнике Азии (Харбин) за 1923 и 1924 гг. №№ 51 и 52…» [3, с. 5].
В соответствии с п. 1 ст. 5 Конституции Монголии государство имеет многоукладную экономику, которая соответствует общей тенденции мировой экономики и специфическим особенностям страны [1, с. 58]. Согласно п. 2 ст. 5 Конституции Монголии, государство признает любые формы общественной и частной собственности. В правовой норме, как и в положениях ст. 8 Конституции России, указаны любые формы общественной и частной собственности, а права собственника защищаются в законодательном порядке, так же как и в России, равным образом защищаются все формы собственности (ст. 8 Конституции РФ, ст. 5 Конституции Монголии), а п. 1 ст. 35 Конституции РФ закрепляет, что право частной собственности охраняется законом.
В Конституции Монголии, в п. 3 ст. 5, прописывается, что права собственника могут быть ограничены лишь на основании, указанном в законе. Конституция России в отношении собственников прямого указания не включает, однако содержит более общую норму. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Каждой стране присущи особенности, отражающие ее специфику и отчасти исторический путь развития, что иногда отражается в нормативных актах. В частности, Конституция Монголии в п. 5 ст. 5 отражает, что скот является национальным достоянием и находится под защитой государства.
Согласно п. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. В данном случае это положение Конституции ориентировано на бережное отношение к природным ресурсам и их рациональное использование, что в свою очередь контролируется государством. Более детально правоотношения в этой сфере регулируются природоресурсным законодательством Российской Федерации. Конституция Монголии в п. 1 ст. 6 прописывает, что земля, ее недра и воды, леса, флора и фауна, другие природные богатства находятся в Монголии исключительно в ведении народа и под защитой государства. В данном случае Конституция Монголии содержит уточнение, что природные богатства находятся в «исключительном ведении» народа, Конституция же России прописывает, что природные ресурсы «используются и охраняются» как основа жизни народов. Кроме того, п. 2 ст. 9 предусматривает, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Конституция Монголии, п. 2 ст. 6, также предусматривает, что земли, кроме переданных в собственность граждан, недра земли, их богатства, лесные и водные ресурсы, фауна являются собственностью государства. Конституция РФ в п. 1 ст. 36 также предусматривает, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
Конституция Монголии в п. 3 ст. 6 прописывает, что земли, кроме пастбищ и земельных участков общественного и специального государственного пользования, могут быть переданы в собственность только гражданам Монголии. Однако это не распространяется на право собственности на недра. Запрещается передача гражданами находящейся в их собственности земли в собственность иностранным гражданам и лицам без гражданства путем продажи, коммерческой сделки, дарения, сдачи под залог, а также предоставления ими возможности другим владеть, пользоваться ею без разрешения компетентных государственных органов. Конституция России не содержит подобного запрета в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, поскольку на основании п. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Схожие запреты предусмотрены, но они включены в состав специального законодательства, регулирующего определенную сферу правоотношений, например, Земельный кодекс Российской Федерации.
Согласно п. 5 ст. 6 Конституции Монголии государство может предоставить иностранным гражданам, юридическим лицам и лицам без гражданства возможность пользоваться землей за плату, на определенный срок и по другим условиям и в порядке, предусмотренном законом. Конституция РФ подобной нормы не содержит, так как эти условия также определяются специальным законодательством.
Конституция Монголии в п. 4 ст. 6 прописывает, что государство налагает на землевладельца обязанности, связанные с землепользованием. Конституция РФ содержит норму более общего характера, предусматривающую, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, а п. 3 ст. 36 отражает, что условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. В п. 4 ст. 6 Конституции Монголии также предусмотрено, что государство может, исходя из особых государственных нужд, обменять или реквизировать землю с последующей выплатой компенсации, а в случае использования ее во вред здоровью населения, интересам охраны природы и национальной безопасности, конфисковать. Конституция РФ подобной нормы не содержит, так как подобные правоотношения регулируются соответствующим федеральным законом. Однако при этом, п. 1 ст. 56 Конституции РФ предусматривает, что в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Кроме того, согласно ст. 53 Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Таким образом, положения Конституции Российской Федерации и Конституции Монголии в отношении закрепления форм собственности очень схожи между собой, но имеются и отличия, отражающие специфику народов и сущность развития государств.
Литература:
1. Конституция (Основной Закон) Монголии (с исправлениями и добавлениями от 01.01.2001): [Принята Великим Народным Хуралом Монголии в 1992г.] // Кручкин Юрий (Аюур). Монголия. Энциклопедический справочник / Юрий Кручкин (Аюур). – Москва-Улан-Батор, 2005. – 967 с.
2. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30., от 30.): [Принята общенародным голосованием в 1993г.] // Российская газета. – 2009. - № 7.
3. Монгольское право (преимущественное обычное). Исторический очерк // , профессор юридического факультета О. Р.В. П. в г. Харбине // Харбин. Типогр. , 1931. – 351 с.
4. Покровский проблемы гражданского права. - М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. – 353 с.
Конституционный Цэц Монголии и Конституционный суд РФ
как органы конституционного контроля
Россия, г. Улан-Удэ
Конституционный контроль является одной из главных проблем теории и практики Конституции и важным объектом исследования науки конституционного права [3]. Особое место в государственном устройстве занимает такой орган, как Конституционный Суд. Конституционный Суд, по нашему мнению, является необходимым звеном среди органов государственной власти, так как он выполняет ряд важнейших функций, среди которых главное место занимает функция конституционного контроля. Также нужно отметить, что Конституционный Суд в разных государствах имеет свои особенности в силу исторических, национально-территориальных и иных сложившихся условий.
В данной статье мы хотели бы дать общую характеристику органов конституционного контроля России и Монголии, рассмотреть их положение в государственном устройстве, выявить некоторые особенности и различия. В РФ органом конституционного контроля является Конституционный суд РФ, в Монголии – это Конституционный Цэц (суд) или Суд Конституционного надзора Монголии (так он именуется в Конституции). «Цэц» в переводе на русский означает «мудрый судья».
Конституционный суд Монголии - это Суд Конституционного надзора Монголии, представляющий собой орган высшего надзора за соблюдением Конституции, принимающий заключения и выносящий решения по случаям нарушения Конституции, а также по спорным вопросам. Суд Конституционного надзора является гарантом соблюдения Конституции [2].
Прежде всего, хотелось бы отметить интересный факт: положение о Суде Конституционного надзора содержится в отдельной главе Конституции Монголии «Конституционный Цэц».
Анализ раздела четвертого «Судебная власть» и главы пятой конституции Монголии «Конституционный Цэц» позволяет сделать неожиданный вывод – Конституционный Цэц не является органом судебной власти в прямом смысле слова. Перечень полномочий, функции и особенно порядок формирования рассматриваемого органа дают возможность предположить, что это квазисудебный орган, занимающий особое место в системе государственной судебной власти [6]. Поэтому определенное время политическая и юридическая общественность путалась в вопросе о том, к какой именно ветви власти относится Конституционный Цэц (суд) [3]. В отличие от Монголии, в России положение о Конституционном Суде прописано в главе седьмой Конституции РФ «Судебная власть», в связи с чем неясностей, к какой ветви власти относится данный орган, не существует.
Также существует еще одна особенность – в Конституции Монголии нет упоминания о принципе разделения властей, хотя фактически по тексту это прослеживается.
Отсюда можно сделать, по меньшей мере, два вывода.
1. Практика конституционного строительства Монголии вышла за рамки классического принципа разделения власти на три ветви и можно судить о существовании пяти ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной, президентской и квазисудебной. Это смелое предположение, конечно же, нуждается в особом доказывании и не имеет должного признания в науке.
2. По всем признакам Монголия может быть отнесена к числу стран, составляющих континентальную или романо-германскую семью права. Поэтому Конституционный Цэц Монголии по природе своей помещается на вершине всей совокупности судебных органов. Он находится вне любого судебного механизма в силу четко ограниченной компетенции [6].
Однако в последнее время ученые и исследователи, а также общество в целом рассматривают Конституционный Цэц Монголии как судебный орган. Вот что написано о Конституционном Цэце в Конституции Монголии, в статье 64 главы пятой указано, что Конституционный Цэц Монголии есть полномочный орган, осуществляющий высший контроль за выполнением Конституции, выносящий заключение о нарушении ее положений, рассматривающий и разрешающий споры; является гарантией неукоснительного соблюдения Конституции [3].
Данное определение несколько отличается от определения Конституционного Суда РФ, данного в статье первой ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Обратим внимание на родовые признаки в данных определениях: «судебный орган» и «полномочный орган», из чего следует, что в Монголии нормативно не определено, что Цэц – судебный орган, хотя по перечисленным в определении признакам этого органа становится понятно, что это орган конституционного контроля.
При исполнении своих обязанностей Конституционный Цэц и его члены подчиняются только Конституции, не зависят от любых организаций, должностных лиц, других людей. Независимое положение членов Конституционного Цэца обеспечивается гарантиями, установленными Конституцией, другими законами. Конституционный Цэц (суд) действует в составе девяти членов, назначаемых на шесть лет Великим Государственным Хуралом Монголии. В Великий Государственный Хурал вносится по три кандидатуры, соответственно, самим Хуралом, Президентом и Верховным Судом [3].
Сразу мы можем отметить различия в составе органов конституционного контроля РФ и Монголии: в составе Конституционного Цэца Монголии девять судей, в Конституционном Суде РФ – девятнадцать. Различен также порядок назначения судей. В Монголии трое из них назначаются Великим Государственным Хуралом по предложению Великого Государственного Хурала, трое - по предложению Президента, трое - по предложению Верховного суда. В РФ согласно статье 4 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» - девятнадцать судей назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Членами Конституционного Цэца назначаются граждане Монголии, имеющие высокую юридическую и политическую квалификацию, достигшие сорока лет [4]. Здесь не упоминается об обязательном наличии высшего юридического образования и стажа работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, как указано в статье 8 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права [5].
Председателем Конституционного Цэца избирается один из девяти его членов большинством голосов членов сроком на три года. Он может быть переизбран один раз.
Великий Государственный Хурал может отозвать председателя и члена Конституционного Цэца в случае нарушения ими законов на основании решения Конституционного Цэца по предложению организации, выдвинувшей его кандидатуру.
Не допускается включение в состав Конституционного Цэца Президента, члена Великого Государственного Хурала, Премьер-министра, члена Правительства, судьи Верховного суда [4].
Далее в Конституции Монголии говорится о полномочиях Конституционного Суда. Конституционный Цэц (суд) Монголии не имеет полномочий по своей инициативе поднимать, проверять и решать вопросы о конституционности тех или иных законов, нормативных правовых актов. Конституционный Цэц (суд) выносит акты только по предмету, затронутому в представлении или ходатайстве, и лишь в отношении той части нормативного акта, конституционность которой подвергается сомнению. Также Конституционный Цэц (суд) может, проверив конституционность нормативного акта, одновременно вынести решение и в отношении других нормативных актов, основанных на проверенном нормативном акте. Конституционный Цэц (суд) может рассматривать законы или иные нормативные правовые акты в целом, структурную часть правового акта, статьи правового акта, правовую норму [3].
Что же касается полномочий Конституционного Суда РФ, то Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле; по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле.
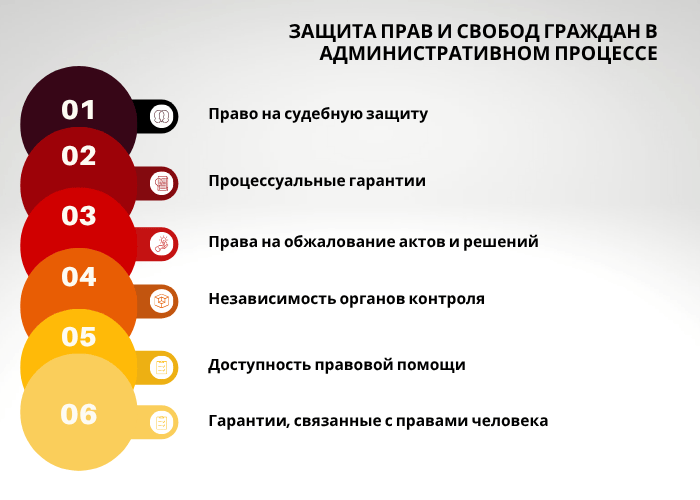
К наиболее важным полномочиям Конституционного Суда РФ относится толкование Конституции Российской Федерации [5]. Толкование, данное Конституционным Судом, является официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений [1, c. 675].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что Конституционный Цэц Монголии и Конституционный Суд РФ имеют полномочия выносить решения по делам конституционности отдельных положений правовых актов, оба этих органа обладают функциями в области конституционного контроля.
В заключение хотелось бы сказать что, конституционный контроль играет важную роль в поддержании законности и правопорядка в государстве, в стабильности и сохранении основ государственного строя. Конституционный Суд занимает особое положение в государстве, поскольку осуществляет функции конституционного контроля. Мы сравнили органы конституционного контроля России и Монголии и пришли к выводу, что между данными органами имеются и сходства, и различия. Сходства между этими органами обусловлены определенными историческими причинами (тесной связью между данными государствами), различия же обусловлены, по-нашему мнению, национальными особенностями данных государств, их правовой культурой, обычаями и традициями.
Литература:
1.Баглай право Российской Федерации: учебник для вузов / . - 6-е издание, измененное и дополненное. - М.: Норма, 2007. – 784 с.
2. Болор-Эрдэнэ, Л. О сильных и слабых сторонах основного закона Монголии [Электронный ресурс] / Л. Болор-Эрдэнэ // Сибирский Юридический Вестник№ 3. - Режим доступа: http://www. law. *****/doc/document. asp? docID=1117434. - Дата обращения: 09.03.2011.
3. Конституционный цэц (суд) в системе государственной власти [Электронный ресурс] / У. Ванчигийн // Сибирский Юридический Вестник№ 3. - Режим доступа: http://www. law. *****/doc/document. asp? docID=1227364. - Дата обращения: 10.03.2011.
4. Конституция Монголии [принята 13 января 1992 г].
5. ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [Принят Гос. Думой 24 июня 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 9.02.2011г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - №13. - Ст.1447.
6. Юрковский, характеристика некоторых особенностей Конституции Монголии [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс] // Сибирский Юридический Вестник№ 4. - Режим доступа: http://www. law. *****/doc/document. asp? docID=1115418. - Дата обращения: 10.03.2011.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЧЛЕНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОНГОЛИИ
Россия, г. Кызыл
Регулирование вопросов формирования органа конституционного контроля и правового статуса его членов (судей) является одним из наиболее объективных показателей состояния конституционной законности и развития демократических институтов в стране. В отличие от формально прописываемых в законах принципов независимости, законности, справедливости и т. д., законодательно установленный порядок назначения (избрания) состава органа конституционного контроля выказывает подлинную степень готовности власти обеспечить реальную независимость конституционной юстиции.
В отношении правового положения членов Конституционного Суда (Цэц) Монголии (далее также – Цэц) в отечественной правовой науке имеются самые различные мнения. Так, говорит о том, что «члены конституционного Цэц – непрофессиональные судьи и их подбор осуществляется политическим руководством по политическим признакам» [1, с. 20]. Согласно же мнению , правовому положению судей Конституционного Суда РФ и членов Конституционного Цэц свойственно больше общего, чем особенного [2, с. 20].
Во-первых, автор не может согласиться с утверждением о том, что члены Цэц – это непрофессиональные судьи, ввиду сомнительности изначальной посылки. Конституционный суд как высший государственный орган конституционного контроля имеет иную правовую природу, чем обычные суды. К судам его можно отнести лишь из формальных соображений определения его места в системе разделения властей и для гарантирования ему максимальной объективности и беспристрастности. Поэтому однозначно утверждать, что, например, судьи Конституционного Суда РФ – это профессиональные судьи, а члены Цэц таковыми не являются, на наш взгляд, представляется несколько некорректным.
Во-вторых, правовое положение членов Цэц урегулировано законодательством Монголии в очень нехарактерной манере и в этом отношении не похоже на аналогичный статус судей Конституционного Суда РФ и органов конституционного контроля в других посткоммунистических странах.
Конституционный Суд Монголии состоит из девяти членов, назначаемых Великим Государственным Хуралом на 6-летний срок по предложению трех субъектов: по три члена от Президента, три – от Великого Государственного Хурала, три – от Верховного Суда (часть 1 статьи 65 Основного Закона (Конституции) Монголии).
Основной Закон Монголии не регулирует вопрос возможности переназначения члена Конституционного Суда на второй и последующий шестилетние сроки. В Законе от 8 мая 1992 г. «О Конституционном Суде Монголии» в части 2 статьи 4 говорится о том, что срок полномочий новоназначенного и вновь назначенного члена Цэц начинается со дня его назначения и продолжается до истечения срока полномочий, предусмотренного Конституцией Монголии [3, с. 57]. Тем самым законодательство Монголии предусматривает возможность переназначения члена Конституционного Суда. При этом нормы, ограничивающие предельный срок пребывания члена Цэц в должности, отсутствуют, и на практике число подобных переназначений может быть неограниченным.
Прежде всего, возникает вопрос об отнесении членов Цэц к судьям судов Монголии и распространения на них статуса судьи. Как правило, в монгольской правовой науке в отношении членов Цэц понятие «судья» (шүүгч) не употребляется не только из соображений соответствия законодательно установленным терминам, но имея в виду несудебный характер деятельности.
Характерным примером несудебного органа конституционного контроля является Конституционный Совет Республики Казахстан, председатель и члены которого являются должностными лицами государства, чей статус определяется Конституцией, законом, а также нормативными правовыми актами о государственной службе в части, не урегулированной Конституцией и законом [4]. Как следует из данной нормы, к членам Конституционного Совета Республики Казахстан не применяются положения о статусе судей.
Законодательство Монголии урегулировало правовое положение членов Цэц схожим с казахстанским вариантом образом. Однако существует одно серьезное отличие. Анализ действующего законодательства Монголии показывает, что в нем не существует понятия «статус судей» аналогичного тому, что установлен законодательством России и многих других государств. Закон Монголии «О суде» регулирует положения о правах и обязанностях судей, гарантиях неприкосновенности, правовой защите, ответственности судей и т. п. в различных главах документа следуя принципу их функционально практического назначения. Каких-либо отдельных нормативных актов, регулирующих вопросы статуса судей, в Монголии нет.
Основной Закон Монголии содержит в себе положение о том, что независимое положение членов Конституционного Суда обеспечивается гарантиями, установленными Конституцией и другими законами (часть 3 статьи 64). На деле правовое регулирование правового статуса членов Конституционного Суда не ограничивается Основным Законом Монголии и специальным законодательством о данном органе. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона Монголии от 01.01.01 г. «О государственной службе» должность члена Конституционного Суда отнесена к виду государственной специальной службы. В части 1 той же статьи указывается, что к этому виду государственной службы, согласно Конституции Монголии и другим законам, относятся должности, связанные с обеспечением национальной и личностной безопасности, принципа верховенства закона, охраной общественного порядка. Пункт 1 части 1 статьи 8 Закона о государственной службе к должностям государственной специальной службы наряду с членами Конституционного Суда относит судей судов всех уровней, прокуроров и многие другие должности.
Как замечает П. Эрдэнэбаатар, законодательство Монголии основывается на широком толковании государственной службы [5, с. 36]. В частности законодательство страны, хотя и делит должностных лиц на две группы – сменяемых политиков и несменяемых администраторов, однако первая группа не выделяется из общей категории «государственных служащих». В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Монголии «О государственной службе» государственным служащим считается лицо, занимающее государственную должность, для исполнения обязанностей по которой государство платит ему денежное содержание и гарантирует условия труда [6]. Это определение в одинаковой мере относится и к государственной специальной службе. Соответственно член Конституционного Суда Монголии имеет статус государственного служащего, занимающего должность государственной специальной службы. В этом отношении законодательство Монголии разнится от правового регулирования статуса судей Конституционного Суда в России, где должность судьи отнесена к категории государственных должностей РФ и которая не является должностью федеральной государственной гражданской службы.
Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Монголии «О государственной службе» лица, замещающие должности государственной административной и специальной службы, являются государственными действительными служащими. Правовой статус этой категории служащих устанавливается Законом «О государственной службе» и иными актами законодательства (часть 4 статьи 11 Закона Монголии «О государственной службе»).
Законодательство о государственной службе играет достаточно значимую роль в регулировании правового статуса члена Конституционного Суда. Так, в Основном Законе Монголии и законах о Конституционном Суде и конституционном производстве отсутствуют нормы о принесении присяги вновь назначенным членом Цэц. Соответственно, данный вопрос регулируется Законом Монголии «О государственной службе», где сказано, что гражданин Монголии – действительный государственный служащий, впервые поступая на должность, приносит присягу установленного содержания (часть 1 статьи 12).
Как пишет Д. Солонго, «наши законодатели из-за того, что с самого начала не рассматривали Конституционный Цэц как прямо относящийся к судебной власти, они не смогли полностью определиться с требованиями, предъявляемыми к его членам» [7, с. 85]. Несмотря на юридически обоснованные возражения, в Основной Закон была введена часть 2 статьи 65, по которой членами Конституционного Суда назначаются граждане Монголии, имеющие высокую юридическую и политическую квалификацию, достигшие сорока лет.
К судьям конституционных судов нередко предъявляются требования, касающиеся не только юридического образования, но и общественной репутации, наличия ученой степени в области права и т. д. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права [8]. Согласно статье 14 Закона Республики Беларусь «О Конституционном Суде Республики Беларусь» судьей Конституционного Суда может быть назначен, избран гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, являющийся высококвалифицированным специалистом в области права и имеющий, как правило, ученую степень, обладающий высокими моральными качествами [9].
В этом отношении внимание на себя обращают такие требования, предъявляемые к членам Конституционного Суда Монголии, как непременное наличие у кандидата высокой политической квалификации, наряду с высокой юридической квалификацией. Прежде всего, бросается в глаза аналогия с Комитетом конституционного надзора СССР, где согласно статье 5 Закона СССР «О конституционном надзоре в СССР» «Комитет конституционного надзора СССР избирается из числа специалистов в области политики и права...» [10]. Похожая норма сохранилась в конституционном законодательстве некоторых республик бывшего СССР, так например, «специалистами в области политики и права» должны быть кандидаты в судьи Конституционного Суда Узбекистана [11]. Оставление в законодательстве этой нормы свидетельствует не столько о простых элементах заимствования из предшествующего советского опыта, сколько о целенаправленном непринятии (даже формального) принципа разделения права и политики в деятельности органа конституционной юстиции.
В правовой науке отсутствие фиксированного срока полномочий, т. е. возможность переназначения судьи конституционного суда, как правило, оценивается в негативном плане. Оставление возможности вновь быть назначенным на последующий срок полномочий вынуждает судью прислушиваться к мнению органа, должностного лица, от которого зависит переназначение, в конечном итоге, сводит на нет принцип независимости. Отсутствие фиксированного срока полномочий либо принципа несменяемости в особенности характерно для постсоветских стран Азии. В частности, помимо Монголии, не устанавливается какого-либо ограничения для занятия должности судьи либо члена органа конституционного контроля на последующие сроки в законодательстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана [12, с. 38].
Член Конституционного Суда во время срока своих полномочий не может принимать участия в политической деятельности. Законом Монголии от 1 мая 1997 г. в Закон «О Конституционном Суде Монголии» было внесено дополнение о том, что в случае выдвижения членом Конституционного Суда своей кандидатуры на выборах в Великий Государственный Хурал или выборах Президента Монголии, исполнение его полномочий приостанавливается вплоть до оглашения результатов данных выборов. В случае если член Цэц во время подобных не будет избран, то приостановленные ранее полномочия возобновляются с момента вынесения окончательных результатов выборов.
В этом проявляется различие между членами Конституционного Суда и судьями судов Монголии. В части 5 статьи 77 Закона Монголии от 4 июля 2002 года «О суде» установлено, что если судья выдвигает свою кандидатуру на выборах Президента или члена Великого Государственного Хурала, он должен быть отправлен в отставку и не может быть назначен повторно на должность судьи в течение двух лет [13]. Тем самым, член Цэц в отличие от судьи Верховного Суда, иных судов, при участии в выборах сохраняет свою должность, и ограничение, связанное с избирательной кампанией, касается лишь его права принимать участие в работе органа конституционного контроля.
Обращает на себя внимание то, что запрет пребывания члена Цэц в политической партии связан не с Основным Законом или законодательством о Конституционном Суде, а предусмотрен Законом «О государственной службе». Специальное законодательство Монголии о Конституционном Суде не содержит императивной нормы обязывающей члена Цэц приостановить членство в политической партии.
Невыполнение на практике требований законодательства о высокой юридической квалификации кандидата в члены Конституционного Суда, по нашему мнению, не противоречит воле законодателя, изначально предусмотревшего широкую возможность для лица, занимающегося политической деятельностью, стать членом Конституционного Суда Монголии.
Вслед за принятием Закона Монголии о Конституционном Суде Великий Государственный Хурал принял постановление «О некоторых мерах по применению Закона о Конституционном Суде Монголии», в котором установил, что председатель Конституционного Суда, три его члена (по одному с каждой стороны) работают на штатной основе, пятеро членов на внештатной основе [14].
Как показало время, эта мера, которая предполагалась быть гибкой и временной, стала постоянным принципом организации деятельности Конституционного Суда. Несмотря на справедливую критику со стороны правоведов [7, с. 130; 15, с.334], парламент не выказывает намерений изменить существующий порядок. Учеными неоднократно указывалось на то, что наличие внештатных членов Цэц противоречит принципам, изложенным в части 1 статьи 2 Закона «О Конституционном Суде Монголии», в частности принципам независимости и равенства прав членов Цэц. Наличие у внештатных членов Конституционного Суда своей основной работы и, как правило, других занятий и источников дохода ставит их в зависимость от множества факторов. В условиях жесткой политической борьбы, использования всевозможных методов по дискредитации противников подобное положение членов органа конституционного контроля делает их крайне уязвимыми и не обеспечивает их самостоятельности и независимости.
Помимо указанных выше существует еще ряд особенностей в правовом статусе членов органа конституционного контроля Монголии, которые не могут быть все затронуты в рамках данной публикации. В целом регулирование правового положения членов Цэц является лишь отдельным элементом законодательства Монголии, установившим одновременно типичный для постсоветского азиатского государства и в то же время уникальный вариант устройства конституционной юстиции.
Литература:
1. Юрковский характеристика некоторых особенностей конституции Монголии // Сибирский юридический вестник№4. – С. 14-21.
2. Красикова юстиция России и Монголии: сравнительно-правовой анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук. – Омск, 2009. – 28 с.
3. Монгол улсын хууль. Монгол, орос, англи хэлээр. Эмхт. Э. Лхагвасүрэн. Үндсэн хуулийн цэц, Хууль зүйн үндэсний төв. – Улаанбаатар, 2007. – 102 х.
4. Конституционный закон Республики Казахстан от 01.01.01г. № 000 «О Конституционном Совете Республики Казахстан» // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан№24. - Ст. 173.
5. Особенности государственной службы Монголии // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России№3. - С. 36.
6. Закон Монголии от 01.01.01 г. «О государственной службе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. legalinfo. mn. - Дата обращения: 07.03.2010.
7. Монгол улсын үндсэн хуулийн хяналт, түүнийг боловсронгүй болгох онол практикийн асуудал. Дисс. хууль зүйн боловсролын д-р. - УБ, 2000. – 144 с.
8. Федеральный конституционный закон от 01.01.01г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. Федерального конституционного закона от 2 июня 2009 №2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ№13. - Ст. 1447.
9. Закон Республики Беларусь от 01.01.01г. «О Конституционном Суде Республики Беларусь» // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь№15. - Ст. 220.
10. Закон СССР от 01.01.01г. «О конституционном надзоре в СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР№29. - Ст. 572.
11. Закон Республики Узбекистан от 01.01.01г. «О Конституционном суде Республики Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан№9. - Ст. 178.
12. Митюков суды на постсоветском пространстве. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. – М.: Московский общественный научный фонд, 1999. – 158 с.
13. Закон Монголии от 4 июля 2002г. «О суде» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. legalinfo. mn. - Дата обращения: 14.04.2010.
14. Постановление Великого Государственного Хурала Монголии от 01.01.01 г. №34 «О некоторых мерах по применению Закона о Конституционном Суде Монголии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. legalinfo. mn. Дата обращения: 21.04.2010.
15. Үндсэн хуулийн шүүхийн өнөөгийн тулгамдсан зорилт // Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц (өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл). Эмхт. Ж. Амарсанаа, Ц. Сарантуяа. – УБ, 20дахь тал.
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В КИТАЕ И РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Россия, г. Улан-Удэ
Общественные перемены, произошедшие в последние десятилетия, кардинально повлияли на политическую и социальную ситуацию во всем мире и привели к активизации миграционных процессов.
В течение XX века наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал составляющим фактором всех глобальных проблем. В этих условиях проблемы регулирования миграции населения выходят за рамки национальной демографической политики и требуют новых комплексных и неординарных подходов к их решению, соединения усилий различных государственных и межгосударственных правовых институтов.
В то же время следует отметить, что есть и несомненные позитивные тенденции в сфере развития национальных интересов как России, так и стран Дальнего Востока в сфере миграции, принятием целого комплекса законодательных актов, направленных на совершенствование правового регулирования общественных отношений.
Политико-правовое регулирование миграции обеспечивается часто противоречивым законодательством, отличающимся не только большим объёмом, но и малой эффективностью реализации национальных интересов. В такой ситуации принятие новых нормативных правовых актов, хотя бывает и своевременным, но наталкивается на системную нескоординированность, порождающую юридические коллизии.
Таким образом, назревшая актуальность разработки концепции миграционно-правовой политики с новых методологических позиций, систематизации миграционного законодательства предполагает анализ системных свойств регулирования миграционных процессов с учётом накопленного мирового опыта и национальных интересов стран в новых исторических условиях. Очевидно, что без определения приоритетов миграционно-правовой политики и основополагающих начал миграционного права невозможно становление и совершенствование действующего миграционного законодательства и формирование отрасли миграционного права. Такой подход обуславливает актуальность и перспективность темы данного исследования.
Для начала рассмотрим, что такое миграция и собственно миграционно-правовая политика государства.
Миграция - это совокупность общественных отношений, возникающих в связи с территориальным добровольным или принудительным перемещением людей, обусловленных международным и внутригосударственным правовым регулированием, а в ряде случаев для определённых категорий лиц, сопровождаемых изменением их правового статуса (положения).
Миграционно-правовая политика представляет собой отношения, возникающие между участниками миграционного процесса по поводу реализации их прав и обязанностей, связанных с въездом в страну, выездом из страны, пребыванием и проживанием на её территории[1]. Миграционная политика - это согласованная и целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, направленная на выполнение комплекса политических, правовых, экономических, социальных, культурно-просветительных, информационных мероприятий, обеспечивающих эффективное регулирование миграционных процессов.
Основой миграционно-правовой политики в Российской Федерации являются права и свободы человека, закреплённые международными правовыми документами, Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере миграции.
Специфика миграционной ситуации в России состоит в том, что Российская Федерация находится на начальном этапе формирования механизма управления миграционными процессами, главной задачей которого является обеспечение и реализация интеллектуального и трудового потенциала мигрантов в целях решения задач по устойчивому социально-экономическому и демографическому развитию страны и укреплению её национальной безопасности. Управление миграционными процессами – согласованная целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по созданию системы стимулов и запретов, определяющих направление и интенсивность миграционных потоков.
Формирование современного миграционного права и миграционного законодательства России сочетает: с одной стороны, адаптацию российской правовой системой международных стандартов регулирования правоотношений в сфере миграции, с другой - тенденцию, выраженную в специфике содержания локальных нормативно-правовых актов [2]. В данном случае речь идет о том, что Россия заключает ряд договоров со странами Дальнего Востока по сотрудничеству и взаимодействию в сфере миграции. Помимо этого, в Российской Федерации имеется ряд нормативно-правовых актов, регулирующих и контролирующих миграционные процессы внутри государства.
Регулирование миграционных процессов и их проектирование является результатом реализации концепции государственной миграционной политики. Поскольку право является основным способом регулирования миграционных процессов, то концепция должна быть основана на теоретико-правовых принципах миграционного права, без чёткого определения которых невозможно ни формирование, ни реализация норм миграционного права.
Миграционные правоотношения являются органической частью всей правовой системы России. Кроме того, Российской Федерацией признаны международно-правовые стандарты обеспечения и защиты прав человека.
В свою очередь, мы можем сказать, что основными направлениями в будущей миграционно-правовой политике российского государства в сфере формирования и совершенствования принципов миграционного права должны стать:
- разработка комплексного подхода к созданию условий приёма и размещения вынужденных мигрантов;
- обеспечение переселенцев, с одной стороны, и экономического развития принимающего региона с другой;
- создание системы готовности к массовому приёму вынужденных мигрантов при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- выработка механизма расселения и обустройства беженцев и вынужденных переселенцев.
Для оптимизации миграционно-правовой политики и определения основных принципов миграционного права, главным приоритетом которых должно стать создание таких условий, при которых каждый человек мог бы реализовать себя там, где он живет, и не стремился бы к перемене места жительства, необходима политическая воля. Государство обязано создать запас средств для предупреждения вынужденной миграции и реагировать на основные нужды людей во всех случаях, когда их переселение необходимо и оправдано.
Таким образом, формирование и реализация миграционно-правовой политики России являются основополагающими направлениями деятельности государства в сфере миграции населения, связующим звеном всех её элементов.
В Китайской Народной Республике специфика миграционной политики имеет несколько иной характер. Одним из основных направлений миграционной политики Китая является привлечение из-за рубежа нужных специалистов [3].
Миграционная политика КНР обладает в известном смысле своей особой спецификой. Суть ее заключается в том, что на фоне широкомасштабной экспансии за рубеж избыточной китайской рабочей силы в самом Китае в последнее время, с одной стороны, наблюдается активное привлечение из-за границы высококвалифицированных специалистов, с другой - ведется строгая борьба с незаконной миграцией, жестко пресекаются малейшие попытки увеличить народонаселение Китая за счет несанкционированного въезда в него нежелательных мигрантов [4].
Таким образом, одним из основных направлений миграционной политики Китая было и остается привлечение из-за рубежа необходимого количества нужных специалистов. Руководство Китая осознает, что развитие экономики и прогресс общества невозможны без высококлассных специалистов. При этом в Китае учитывается опыт реализации миграционной политики в других странах мира.
Для привлечения специалистов из-за границы китайское Правительство принимает меры двоякого характера. С одной стороны, оно активно призывает к возвращению в Китай тех своих граждан, которые учились за границей [5]. С другой стороны, китайское Правительство стало активно стимулировать иммиграцию в Китай иностранных специалистов.
Именно для более широкого привлечения специалистов-мигрантов в 2004 г. китайское Правительство обнародовало Правила о порядке, санкциях и контроле за постоянным жительством иностранцев в Китае. Введение этого нормативного акта способствовало усилению притока иностранных специалистов в Китай.
Другим важным направлением миграционной политики Китая является строгая борьба с незаконной миграцией [6]. Самое большое количество незаконных мигрантов нелегально переправилось в Китай из КНДР. По имеющимся данным, в период с 1983 по 2009 г. из Северной Кореи незаконно перебрались в Китай около 400 тыс. мигрантов.
В октябре 2004 г. в г. Вэньчжоу Министерство общественной безопасности КНР провело дискуссию по проблемам борьбы с правонарушениями и преступлениями, совершаемыми незаконными мигрантами. В ходе дискуссии были проанализированы состояние, структура и динамика противоправных действий, совершаемых мигрантами, обобщен опыт борьбы с этим негативным явлением, рассмотрены вопросы сотрудничества с сопредельными странами по противодействию незаконной миграции. По результатам проведенной дискуссии Правительство разработало и приняло ряд мер [7].
В первую очередь стало активно развиваться международное сотрудничество по предупреждению незаконной миграции. Китай не только решительно борется с незаконной миграцией своими силами внутри страны, но и сотрудничает в этой области более чем с 40 странами, в том числе с государствами Европейского союза и с Россией.
16 июля 2001 г. Китай и Россия в г. Москве подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ст. 20 которого предусматривает, что Китай и Россия будут совместно бороться с незаконной миграцией, в том числе бороться с лицами, которые через свою территорию незаконно перевозят физических лиц.
В целях повышения уровня взаимодействия обоих государств в сфере регулирования миграционных процессов, в том числе в области совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества, упорядочения миграционных потоков, регулирования внешней трудовой миграции, обеспечения законных прав и интересов мигрантов, принятия согласованных мер по предупреждению и борьбе с незаконной миграцией, 20 марта 2006 г. Россия и Китай создали Совместную рабочую группу по вопросам миграции [8]. Основными направлениями деятельности рабочей группы являются подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы обоих государств в области миграции, укрепление сотрудничества сторон в сфере предупреждения незаконной миграции, обмен информацией о методах и способах пограничного контроля, совершенствование механизма защиты законных прав и интересов мигрантов.
Китайские и российские государственные деятели обратили внимание на миграционные проблемы. 26 марта 2007 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао и Президент РФ Владимир Путин подписали в г. Москве Совместную декларацию КНР и России, еще раз подтвердив результаты сотрудничества России и Китая в сфере миграционной политики [9].
В Китае было принято решение совершенствовать миграционное законодательство [10]. Во многих странах мира давно приняты и действуют специальные миграционные законы, выступающие важным средством регулирования миграционных правоотношений. Этот опыт следует учесть и китайскому законодателю.
В настоящее время в Китае не существует и специального органа, который занимался бы исключительно проблемами миграции. Многочисленные государственные органы, управляющие миграционным процессом в Китае, плохо скоординированы между собой, зачастую дублируют одни и те же функции или, наоборот, оставляют без должного внимания отдельные звенья сложного миграционного процесса. Все это снижает эффективность реализации миграционной политики в КНР. Создание специальной миграционной службы позволило бы устранить отмеченные недостатки и, как следствие, повысить результативность борьбы с незаконной миграцией в Китае. В этой области примечателен опыт Российской Федерации.
Таким образом, особенностями современной официальной миграционной политики КНР являются:
- содействие укреплению своих позиций на мировом рынке трудовых услуг;
- борьба с нелегальной иммиграцией;
- активная защита прав китайских граждан за рубежом;
- поощрение осевших за границей ученых к возвращению на родину.
Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что в особенностях миграционной политики и Российской Федерации, и Китая есть ряд схожих направлений. Это, во-первых, обеспечение и реализация интеллектуального и трудового потенциала мигрантов. Необходимо заметить, что этого направления стараются придерживаться большинство стран мира.
Во-вторых, заметим, что в качестве факторов, отражающих активное взаимодействие этих государств в сфере регулирования миграционных процессов, выступают: подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы обоих государств в области миграции, укрепление сотрудничества сторон в сфере предупреждения незаконной миграции, обмен информацией о методах и способах пограничного контроля, совершенствование механизма защиты законных прав и интересов мигрантов. Кроме того, между Россией и Китаем были подписаны ряд договоров, касающихся правового положения трудовых мигрантов, а также защиты их законных прав и интересов. Следовательно, и Китай, и Россия идут по пути совершенствования миграционной политики в целом, уверенно развивая китайско-российское сотрудничество в данной сфере.
Все вышеизложенное, на наш взгляд, позволит улучшить эффективность реализации миграционной политики и в России, и в Китае, повысить её результативность.
Литература:
1. Миграционно-правовая политика и принципы миграционного права России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2008.
2. Новое миграционное законодательство Российской Федерации: правоприменительная практика / Г. Витковская. – М.: АдамантЪ, 2009.
3. Белорусец процессы в Дальневосточном федеральном округе // Аналитические обзоры Российского института стратегических исследований. - М., 2004. - № 1.
4. Демографическая ситуация и миграционная политика на российском Дальнем Востоке: национальная безопасность, интеграционные процессы, соотечественники за рубежом. Материалы "круглого стола" 16 декабря 2004 г. в МГИМО (У) МИД России. - М.: МГИМО-Университет, 2005.
5. Исследование, проведенное Академией общественных наук Китая, показало, что на протяжении 1гг. 1,06 млн. китайских граждан учились за границей, но только 275 тыс. человек вернулись на родину, около 70% граждан, получивших образование в других странах, постоянно проживают там.
6. Изменение и применение Уголовного кодекса КНР / Под ред. Гао Цзянси. 1997.
7. Трудные задачи по предупреждению и борьбе с незаконной миграцией, которые стоят перед Китаем // Сайт Даиан. 20октября.
8. URL: http://www. *****/society//.html (дата обращения: 13.04.2011).
9. URL: http://www. chinaconsulate. *****/rus/xwdt/t307521.htm (дата обращения: 13.04.2011).
10. Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы // Проблемы Дальнего Востока№2.
КОНФУЦИАНСКИЙ ВАРИАНТ ДЕМОКРАТИИ В ФИЛОСОФИИ МЭН-ЦЗЫ
Россия, г. Улан-Удэ
.
В условиях глобализации динамично развивающегося мира особое внимание привлекает КНР. «Привлекательными» выступает, прежде всего, демографический фактор: Китай сегодня является наиболее густонаселенным государством. Но более всего уникальны темпы экономического и социально-политического развития Китая. Многочисленные исследователи Китая задаются вопросами: «Каково место КНР в современном мире? Каков рецепт столь успешного современного развития Китая?» Эпоха глобализации выделяет новую проблематику. Идея толерантности множества миросозерцаний требует переосмысления идеи демократии как гуманистического идеала современности. Сейчас западные правительства твёрдо и сильно поддерживают движение Китая к демократии, а голоса адвокатов занимающихся правами человека, и граждан Китая требующих демократии звучат громче, чем это было в 90-х. «Демократия распространяется в Китае глубже и шире…. надежда на демократию в Китае никогда не была так реальна, как сейчас», - заявляли в 2005 г. Чэнь Юнлинь, бывший консул китайского посольства в Сиднее, и Хао Фэнцзюнь, бывший офицер Управления национальной безопасности, в борьбе за соблюдение прав человека[13].
Актуальность этой проблемы подталкивает провести сравнительный анализ феномена демократии в плоскостях различных культур: компаративистское исследование западного типа демократии и феномена демократии в китайской политической системе.
Анализ современных представлений Запада о том, как должна была бы выглядеть демократия, позволяет судить о том, что его мнение не совпадает с мнением о демократии самих китайцев. Налицо факт, что сегодня центральное руководство пользуется поддержкой большинства китайского населения, которое верит, что жизнь постепенно улучшается. Жалобы и недовольство вызваны произволом и коррупцией местного чиновничества. Пока цензура и прочие ограничения не отражаются на 90% повседневной деятельности простых людей, они будут склонны давать правительству кредит доверия и даже прощать ему излишества и явные промахи, коль скоро они не носят катастрофического характера. Это впечатление станет усиливаться по мере того, как запрет на свободное выражение взглядов начнет постепенно ослабевать, даже если неявные и размытые ограничения все же останутся. Перефразировав Линкольна, китайцы в собственных стратегических интересах будут принимать «правительство, созданное из народа и для народа», но не народом. Подобное положение дел в общемировом масштабе является наиболее благоприятным примером существования демократии.
Что касается западных демократий, то КПК считает их фактически олигархическими государствами, где правящая элита не слышит голос народа даже в таких вопросах, как ведение войны. Более того, эти общества раздираемы глубокими экономическими разногласиями, они не способны обуздать рыночную стихию, вынуждены решать социальные проблемы, которые были бы разрушительны в китайском контексте. Скандинавские демократии выглядят вполне благополучно, но они слишком далеко ушли вперед, чтобы служить примером для Китая в переходный период. Жители Индии, вне всякого сомнения, были бы разгневаны тем, что китайцы считают их хваленую демократию фикцией, поскольку она не приносит справедливых экономических дивидендов и не ведет к социальной реформе, которая изменила бы жизнь бедных и социально незащищенных слоев общества. Вместо этого всю выгоду от экономического роста пожинают элиты. Вполне естественно, что наиболее скрупулезно изучаются примеры демократий в Восточной Азии.
Закономерен вопрос: «Каковы истоки китайской демократии?»
Истоки подобных представлений о политической системе общества мы склонны относить к национальной культуре. Наиболее благодатной почвой для развития демократических идей стало конфуцианство. Множество исследований посвящены вопросу о специфике конфуцианской демократии[14]. Однако актуальность этого вопроса сохраняется.
В своем исследовании нам хотелось бы обратиться к наследию выдающегося древнекитайского мыслителя, последователя Конфуция, Мэн-цзы. Особого внимания, в свете нашего исследования, заслуживает тот факт, что Мэн-цзы, продолжая социально-политическую направленность конфуцианской философии, стал первым выразителем демократических идей в истории древнекитайской мысли.
Мэн-цзы (372/371 – 289 гг. до н. э.) называют «следующим за совершенномудрым» или «уступающим только святому – Конфуцию» - я шен. Его заслуга заключается в том, что именно он наиболее полно, ясно и систематизированно изложил основные конфуцианские принципы.
Несмотря на это философия выдающегося древнекитайского мыслителя освещена не столь обширно. Изучение идей Мэн-цзы российскими исследователями активизировалось сравнительно недавно[15]. Поэтому можно констатировать актуальность продолжения поиска «белых пятен» в изучении его философии.
Со времен известного французского историка, социолога и политического деятеля Алексиса де Токвиля в политической литературе неоднократно высказывалась мысль, что развитие государственных форм неизбежно и закономерно приведет человеческое общество к демократии. Позднее ряд влиятельных политологов, подобно де Токвилю, содействовал утверждению этой мысли в общественном сознании. Демократия представлялась естественным и неизбежным состоянием, которое немедленно наступит вне зависимости от содействия или противодействия отдельных индивидуумов или групп людей. Существовало также множество противоположных точек зрения.
Но к какой именно демократии может прийти, то или иное общество? Ответ на этот вопрос зависит от большого числа слагаемых, в числе которых специфика исторического развития, особенности национального характера и других факторов. Как ни странно, термин «демократия» принадлежит к числу наиболее спорных и неопределенных понятий современной политической теории. Прежде ее нередко считали высшей и конечной формой, обеспечивающей уверенное и благополучное существование. Противники понимают, что при ней все же можно существовать, ее сторонники соглашаются, что ей свойственны слишком многие недостатки, чтобы ее чрезмерно превозносить.
Позднее понятие демократии было распространено на все формы государства, в котором народу принадлежат верховенство в установлении власти и контроль над нею. При этом допускалось, что свою верховную власть народ может проявлять как непосредственно, так и через представителей. В соответствии с этим демократия определяется, прежде всего, как форма государства, в котором верховенство принадлежит общей воле народа.
Современные исследователи единодушно признают, что как более поздняя и сложная форма политического развития демократия требует и большей зрелости народа. По словам де Токвиля, «народ должен созреть для управления самим собой, понимающий свои права и уважающий чужие, осознающий свои обязанности и способный к самоограничению». «Демократия, - продолжает он, - невозможна без воспитания народа, без поднятия его нравственного уровня»[16]. Этот же вопрос поднимает в своей теории Мэн-цзы. Но при этом он упоминает, что воспитание народа и поднятие его нравственного уровня невозможно без экономической основы. Предлагая свою систему «колодезных полей», Мэн-цзы ищет пути достижения прочного экономического фундамента для населения. Стабильное экономическое развитие всегда являлось базой для более высокой культуры людей, что, в свою очередь, может стать основой развития демократических настроений.
Историческая обстановка эпохи, в которой жил Мэн-цзы, не изменилась со времен Конфуция. Как и в эпоху Великого Учителя, наиболее актуальным вопросом для общества эпохи Чуньцю («Весны и Осени») оставался вопрос управления государством, наилучшего государственного и общественного устройства. Мэн-цзы жил на столетия позже Конфуция, а проблемы политической и экономической обстановки в его время стали еще более явными и актуальными. Продолжая развивать основное направление философствования древнекитайских мудрецов, Мэн-цзы выдвигает идею управления государством на основе человеколюбия, традиционного конфуцианского принципа жэнъ (гуманности). Эта идея у Мэн-цзы выражена в словах «ценить народ». Последователи «школы служилых» во всем «ценили народ», но именно Мэн-цзы особенно выделился среди них. Анализируя социально-политические принципы философии Мэн-цзы, мы пришли к выводу, что Мэн-цзы стал основателем демократических идей в древнекитайской мысли, возникших практически одновременно с расцветом древнегреческой демократии (IV-III вв. до н. э.). Конечно, древнегреческая демократия, в каком виде она известна человечеству, ближе современному понятию о демократии, так как современная демократия является непосредственным, во многом видоизменившимся порождением древнегреческой мысли.
Вопрос о «конфуцианской демократии» поднимал бывший премьер-министр Сингапура Ю Куанг Ли. Он откровенно говорил, что западная демократия должна оказать разрушительное воздействие на общество, подобное Сингапуру, потворствуя вседозволенности, вызывая социальную нестабильность и экономически нерациональное принятие решений. Сэмюэл Филипс Хантингтон, например, утверждал, что "конфуцианская демократия" является внутренне противоречивым понятием: «Традиционное конфуцианство следует считать либо недемократичным, либо антидемократичным...». Рассуждая о совместимости конфуцианства и демократии в современных условиях Китая и Японии, положительного мнения придерживается Ф. Фукуяма[17]. Считая этот вопрос достаточно сложным, Фукуяма придерживается мнения, что конфуцианство более совместимо с демократическими идеями, чем не совместимо. Однако в данной работе, придерживаясь мнения Ф. Фукуямы, мы акцентируем внимание на том, что зачатки специфической демократии все же существовали в Древнем Китае, которые качественно отличались от западного «народовластия», истоки которого восходят к Древней Греции.
В основе нашего убеждения в том, что философия Мэн-цзы содержит демократические идеи «народовластия», лежит его тезис о том, что «наиболее ценным является народ, за ним следуют духи земли и злаков, правители же занимают незначительное место». Рассмотрим основные пункты нашей гипотезы.
Во-первых, если Конфуций разделял людей на цзюнь-цзы (благородный муж) и сяо жэнъ (низкий человек), последним из которых путь к цзюнь-цзы был ограничен в зависимости от происхождения семьи, в которой родился человек, то, по Мэн-цзы, каждый человек изначально обладает неким внутренним моральным качеством, называемым им «доброй природой». Каждый человек с рождения наделен всеми качествами идеального человека конфуцианского цзюнь-цзы, которые он может утратить или, наоборот, сохранить в течение жизни в зависимости от его собственных поступков. Таким образом, люди, по Мэн-цзы, равны в возможностях, правах и ответственности с рождения.
Во-вторых, разрабатывая экономическую концепцию, Мэн-цзы задался целью не просто улучшить материальное положение народа, но и создать для народа условия для развития. Мэн-цзы утверждал, что, воплотив в жизнь принципы экономического учения, народ будет жить в достатке и развиваться духовно. Основой прочного экономического фундамента по Мэн-цзы должно быть равное распределение земли. Идеальная земельная система для него – это система «колодезных полей». Согласно данной системе каждое ли (полкилометра) земли делится на девять участков, каждый площадью в сто китайских акров. Центральный участок – так называемое «общественное поле», а окружающие его восемь являются собственностью восьми крестьян и их семей, каждой семье принадлежит один участок. Крестьяне возделывают свой участок, а общий участок – сообща. Продукт с общественного поля идет в казну, а урожай собственного поля семья оставляет себе. Если народ будет владеть землей в таких размерах, то этого будет «достаточно, чтобы служить отцам и матерям, достаточно, чтобы содержать жен и детей, в урожайные годы позволит быть сытым, в неурожайные годы позволит избежать смерти»[18]. На этой базе «можно уделять внимание обучению в школах, внушать долг сыновней почтительности к родителям и уважение к старшим». Как полагал Мэн-цзы, если «будет так, то не может быть такого, чтобы правитель не был правителем»[19] (т. е. достойный представитель не занял бы пост правителя вана и не объединил бы Поднебесную). И когда каждый получит какое-то образование и придет к пониманию человеческих отношений (принципов ли), то можно говорить о завершении «пути вана (совершенномудрого правителя)».
В ракурсе нашего исследования важно отметить тот факт, что возможность обращать больше внимания образованию открывает доступ каждому человеку к возможности занимать управленческие должности в правящем аппарате государства, посредством сдачи государственных экзаменов. Данная идея прозвучала еще у Конфуция, но не так явно. Именно Мэн-цзы сформировал эту идею более последовательно.
Новацией Мэн-цзы стала идея о возможности народа свергать неугодного правителя, что можно считать проявлением права на свободу выбора главы государства. Это является свидетельством попытки реализации принципа ремострации[20]. Призывая уделять больше внимания народу, Мэн-цзы осознавал огромное значение и мощь, которые заключены в народе. Известно его утверждение о том, что «если государь ведет себя не так, как положено государю, если он по своим нравственным качествам напрасно носит титул государя, то люди достойные и образцовые (лучшие представители народа – Прим. авт.) во всех отношениях могут исправить это положение, сменив государя на другого, который будет соответствовать тому слову, которым его называют»[21]. Он утверждает, таким образом, что в обществе может царить своеобразное негласное «народовластие», выраженное в контроле над деятельностью правителя.
Таким образом, Мэн-цзы в своем учении передает власть в руки народа, сформированные им предпосылки демократических принципов управления государством отражают определенную степень зрелости идей мыслителя. Его политическая концепция стала достойным и значительным продолжением учения Конфуция.
Еще недавно традиционно считалось, что Восточная Азия - это регион, где господствовали консерватизм, деспотия и не могло быть и речи о демократии. Сегодня мы посмеем предположить, что современные «восточные тигры», не случайно достигли таких неимоверных вершин в политике, экономике и во многих других отраслях. В основе конфуцианской цивилизации лежат древнейшие принципы демократизма, глубоко синтезированного с принципами гуманизма, сыновней почтительности, долга, ответственности и справедливости. Возможно, это и есть секрет успеха развития стран «конфуцианского культурного региона», которые в условиях глобализации могут сыграть роль яркого примера дальнейшего развития других стран мира.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Россия, г. Улан-Удэ
Китайские власти приняли решение сократить число преступлений, за которые грозит смертная казнь. Поблажки касаются нарушителей закона в экономической сфере: мошенников, контрабандистов и бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов.
Гуманные и беспрецедентные поправки к Уголовному кодексу 1979 года были утверждены 25 февраля 2011 года на завершившейся в Пекине очередной сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей [6].
Количество статей, по которым предусмотрен расстрел, сократилось на 13 пунктов за счет отмены смертной казни за ряд «экономических преступлений ненасильственного характера». Под «сокращение», в частности, попали статьи за контрабанду (исторических ценностей; золота, серебра и прочих драгметаллов; редких животных и так далее), мошенничество и налоговые преступления. В эту категорию также включены «черные археологи» и кладоискатели.
Однако, как заявил вице-председатель законодательного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ланг Шенг, отмена смертной казни за другие преступления невозможна, но упразднение высшей меры наказания за экономические преступления - тоже огромный шаг вперед.
Под поправки попали также преступники преклонного возраста: в отношении осужденных, достигших 75 лет, смертная казнь применяться не будет. Исключения будут делаться только в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, совершенных с особой жестокостью. Чуть ранее от угрозы смертной казни были освобождены подростки и беременные женщины.
О намерении отменить смертную казнь за экономические преступления Китай объявил в августе 2010 года. До настоящего момента страна является мировым лидером по абсолютному числу приводимых в исполнение смертных приговоров. Характерно и то, что даже оценки специалистов относительно числа казненных в Китае преступников отличаются в разы. Это обусловлено тем, что власти тщательно скрывают информацию о проводимых в Поднебесной расстрелах.
По различным оценкам, ежегодно в Китайской Народной Республике приводят в исполнение от 2 до 7 тысяч смертных приговоров. Это означает, что в Китае казнят больше людей, чем во всех остальных странах мира вместе взятых [7].
Китайские суды выносят обвинительные приговоры в 99% случаев, а за последние 10 лет виновными были признаны более 6 миллионов человек. При этом оправдания удалось добиться лишь нескольким десяткам тысяч осужденных [7].
Тем временем в России глава государства Дмитрий Медведев подписал закон [5], согласно которому по 68-ми составам преступлений были отменены минимальные сроки лишения свободы. Закон был принят Госдумой 25 февраля 2011 года и одобрен Советом Федерации 2 марта 2011 года. Это закон, пожалуй, самый серьёзный и революционный из внесенных в уголовное законодательство за всю историю современной России. Этот закон устанавливает следующий порядок – наказание в виде лишения свободы будет в основном предусмотрено за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Революционность документа в том, что по 68-ми составам преступлений, предусмотренных действующим Уголовным кодексом, исключены нижние пределы санкций в виде лишения свободы. А вот верхние пределы, определяющие степень общественной опасности преступления, остались без изменения. Это означает, что по новым поправкам суду предоставляется возможность проявлять более дифференцированный подход, назначая наказание. Инициатором смягчения Уголовного кодекса выступил президент страны. Осенью 2010 года на совещании по либерализации уголовного законодательства он сказал, что «эта достаточно радикальная мера должна позволить суду при назначении наказания применять дифференцированный подход» [8].
Изменения коснулись следующих статей - мошенничество, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, коммерческий подкуп. Кроме этого, могут избежать лишения свободы обвиненные в незаконном предпринимательстве, клевете, нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, кражах, грабежах и разбоях. Все публикуемые изменения дают суду выбирать больше наказаний, не связанных с лишением свободы. По 11-ти составам преступлений основным наказанием будет штраф. В 12-ть составов преступлений добавлены исправительные работы. Еще по 118-ти составам преступлений исключен нижний предел наказания в виде исправительных работ и ареста. Кроме того, закон меняет подход к отмене условного осуждения при совершении осужденным в течение испытательного срока умышленного преступления небольшой и средней тяжести либо преступления по неосторожности. Теперь этот вопрос оставлен на усмотрение суда.
Что же предусматривает новая инициатива президента? Законопроект вместо лишения свободы за многие преступления предусматривает штраф или исправительные работы. Согласно комментариям министра юстиции Александра Коновалова: «закон позволит, как минимум на одну треть разгрузить колонии». То есть, теперь - за кражу, грабёж и разбой можно будет отделаться штрафом или исправительными работами.
Адекватна ли в настоящее время государственная политика борьбы с преступностью? На этот вопрос ответ только отрицательный. Тенденции развития современной российской преступности настолько неблагоприятны, что вполне можно и нужно говорить о том, что преступность создает угрозу национальной безопасности и что сама Россия постепенно превращается в криминальное государство. В то же время с полным основанием можно утверждать, что реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сторону либерализации, наблюдающееся особенно в последнее время, а также повсеместная либерализация правоприменительной практики без дифференцированного подхода к различным категориям преступлений и преступников не сопоставляются с криминологическими реалиями. Например, сейчас за один год в стране регистрируется столько преступлений, сколько в прошлом (в частности, в 60-70-е годы) за целое пятилетие.
Согласно сводкам с официального сайта МВД РФ, в России ежегодно совершается 42-46 тысяч убийств и еще примерно такому же количеству граждан преступники наносят тяжкие увечья. Последние данные за 2010 год заканчиваются на этом сайте ноябрем и согласно этим данным, за период с января 2010 года по ноябрь 2010 преступники в России убили 38,3 тыс. человек [9]. Россия занимает по убийствам третье место среди развитых стран (14,2 убийства на 100 тыс. населения), уступая только ЮАР (36,5 убийства на 100 тыс.) и Бразилии (22 убийства на 100 тыс.). При этом Россия - единственная из европейских стран, которая по уровню убийств входит в Большую криминальную двадцатку (во главе с Гондурасом – 60,9 убийств на 100 тыс. населения), занимая там место между Намибией и Суринамом. Если же учитывать реальную статистику, приводимую органами МВД, Россия попадает в мировые криминальные лидеры – 40 убийств на 100 тысяч человек. И это все без учета латентной преступности, без вести пропавших (30 тысяч человек в год) и гибели людей, квалифицированной не как убийство, а как «смерть в результате нанесения тяжких телесных повреждений» [10].
Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Эдуард Филиппович Побегайло в своей статье «Кризис современной российской уголовной политики» задаёт главный вопрос «должна ли уголовная политика в этих условиях быть либеральной?» Должна ли Россия в период её фактического кризиса, который только усугубляется, проводить либерализацию? [4, с.114]
отмечает, что «самая большая наша беда, это стремление решить серьезные социально-криминологические проблемы путем изменения УК или другого законодательства» [3].
Еще Гегель в «Философии права» обращал внимание на то обстоятельство, что «если положение самого общества шатко, тогда закону приходится посредством наказания устанавливать пример» [1, с. 90], то есть строгость наказания находится в определенном соотношении с реалиями общества в определённую эпоху. Нынешнее состояние нашего общества, все еще «шатко». Оно, несмотря на некоторые подвижки, продолжает пребывать в условиях глубокого экономического, социально-политического и духовного кризиса, обострения множества противоречий, имеющих существенное криминогенное значение.
Надо согласиться с авторами и учеными, которые считают, что уголовная политика не в состоянии и не должна быть либеральной во время разгула преступности и коренных перемен в обществе и в государстве.
Как чётко прослеживает , в период с 1990 г. к началу нынешнего столетия зарегистрированная преступность в России возросла примерно в три раза. В отдельные годы темпы ее роста были просто беспрецедентными. Все это происходило на фоне безудержной «либерализации» и «гуманизации» уголовного законодательства и правоприменительной практики, когда даже само понятие «борьба с преступностью» применительно к деятельности уголовной юстиции было объявлено «вульгарной идеей», несовместимой со шкалой либеральных ценностей [2, с.19].
А с чем же нам придётся столкнуться на практике?
Первое, что вызывает протест: после внесенных изменений лицо, совершившее преступление средней тяжести или даже тяжкое, может получить условный срок.
Во-вторых, по 68-ми составам преступлений минимальный срок снижен до 2-х месяцев лишения свободы. Было бы не плохо, если бы речь шла только о малозначительных преступлениях. Однако обсуждаемые изменения коснулись санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ. В мировой практике данный состав признаётся убийством.
До двух месяцев лишения свободы теперь могут получать и лица, совершившие разбой, даже групповой, а также квалифицированные кражи. То есть фактически создается «рай» для уголовного элемента.
НИИ Академии Генеральной прокуратуры было обнародовано фундаментальное исследование «Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности в России», которое проводилось на протяжении более 10-ти лет. Один из авторов работы доктор юридических наук Владимир Овчинский рассказал, что удалось выяснить специалистам [11]. Так, оказалось, что в период с 2004 по 2009 гг. в России пожизненное лишение свободы за «умышленное» убийство было назначено от 0,2% до 0,5% всех осужденных за это преступление. А максимальный срок лишения свободы был назначен лишь от 3,2% до 4,6% всех бандитов. Большая часть убийц в России получала смехотворные сроки и с помощью института условно-досрочного освобождения (УДО) выходила на свободу через 3-4 года.

Более того, за нанесение тяжкого вреда здоровью (в том числе и повлекшего смерть – фактически, это убийство) в гг. максимальный срок лишения свободы был назначен только двоим лицам из 234,4 тыс. осужденных за это преступление. А еще треть таких убийц (от 32,6% до 36,9%) даже не попали за решетку – суды назначили им условные наказания.
Из 1180 человек, признанных судами бандитами, только 3 бандита получили максимально возможные сроки лишения свободы. А из 146,9 тысяч лиц, признанных виновных в разбое (т. е. в грабеже с использованием оружия) максимальные сроки получили только 7 человек.
Таким образом, причина ужасающего роста преступности в стране, как и формирования криминальной культуры, совершенно очевидна – суды назначают убийцам и насильникам минимальные сроки. При этом почти 50% вышедших на свободу в России преступников в течение года снова попадаются на тех же преступлениях, т. е. воры попадаются на воровстве, насильники – на изнасилованиях, а убийцы – на очередном убийстве.
На наш взгляд, чтобы снизить уровень тяжких преступлений в России целесообразно назначать высокие сроки наказания, например, пожизненное лишение свободы - за фактическое, «умышленное» убийство, а не выпускать одних и тех же преступников каждые 3-4 года.
Так что же мешает судам назначать высокие пределы наказания?
«УК РФ действительно позволяет карать преступников пожизненным лишением свободы, и судья понимает, что для общества это идеальный выход – преступник тогда не сможет больше никого убивать и мучить. Но если судья в первой инстанции вынесет жесткий приговор, то, скорее всего, в кассации его обжалуют, а это плохо сказывается на статистике конкретного судьи. Если много обжалованных приговоров, судья не сделает карьеру, а то и вообще рискует потерять место. Вот судьи и дают всем, даже самым отъявленным негодяям, сроки ближе к серединке. А в кассации и эти «серединки» и вовсе смещаются к минимальным срокам, а потом в местах лишения свободы получается, что нередко преступники получают Условно Досрочное Освобождение (УДО). Так они и выходят, и снова творят «беспредел», никого и ничего не опасаясь», — рассказывает офицер ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской Области.
И в таких условиях, разве можно говорить вообще о либерализации составов? По этим составам и так назначаются предельно низкие наказания, а теперь ещё и они снижены, и заменены, необоснованной альтернативой.
Сравнивая тенденции либерализации в России и КНР, необходимо отметить, что для Китая это необходимый путь, так как Китаю необходимо гуманизировать уголовное законодательство. По статистике в КНР смертная казнь исполняется в отношении приговорённых больше, чем в других странах вместе взятых. Тогда как, на наш взгляд, для России необходима жёсткая, целесообразная уголовная политика, поскольку необходимо противостоять российской тенденции криминализации общества, уменьшению преступности и улучшению, как частных, так и общих превентивных начал.
Литература:
1. Ф. Философия права. Философское наследие. – Т. 113. - М.: Мысль, 1990. – 524 с.
2. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М.: издательство «Республика», 1992. – 112 с.
3. Лунеев современной преступности и борьбы с ней в России / // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.16-18.
4. Побегайло современной российской уголовной политики / // Уголовное право. – 2004. – № 3, 4. – С. 112-117.
5. О внесении изменений в уголовный кодекс РФ: ФЗ от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ // Собрание законодательства РФ- №11. - Ст. 1495.
6. 13 crimes removed from death penalty list // China. org. cn [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. china. org. cn/china/NPC_CPPCC_2011/2011-02/25/content_.htm. - Дата обращения: 01.04.2011.
7. Китай лидирует по числу казней: 9 расстрелов в неделю // Каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. /crime/15apr2008/kazn_amnesty. html. - Дата обращения: 01.04.2011.
8. Суд смягчится // Российская газета. - № 54
9. Состояние преступности - январь-ноябрь 2010 год // Официальный сайт МВД Российской Федерации. – Режим доступа: http://www. *****/presscenter/statistics/reports/show_85382/ [Электронный ресурс]. – Дата обращения: 01.04.2011.
10. Преступность в России стимулируют суды // Росбалт. RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. *****/2011/02/25/823223.html. - Дата обращения: 01.04.2011.
11. История создания Академии // Сайт Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. agprf. org/acad/acad-2.html. - Дата обращения: 01.04.2011.
РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КНР
И.
Россия, г. Иркутск
Непрерывное существование многовековой культуры и необычайно высокий уровень исторического сознания превращало историю и культуру китайского народа в важнейшее условие существования гармоничного общества, в залог его стабильного развития. Культура, традиции и история никогда не рассматривались китайцами в качестве самостоятельно и независимо существующих единиц, но в качестве неких источников для многих социальных и политических идей, выполняя функции разъяснения, комментирования и оценки текущих политических событий. Именно поэтому КНР уделяет огромное значение своему историческому достоянию, культурному наследию, что находит отражение и в правовой системе государства, в его нормативно-правовых актах.
Цель работы — это анализ роли и места культурного наследия и истории в современном законодательстве КНР.
Ху Цзинь Тао: «Мы будем помнить историю, никогда не стоит забывать прошлого, для того, чтобы поддерживать мир и гармонию и создавать лучшее будущее» [5, с. 1]. Уровень исторического сознания китайского общества необычайно высок, во все времена китайцы хорошо знали историю своей страны (в её официальной интерпретации). В Китае сложилась и успешно функционировала система доведения основных фактов национальной истории до каждого жителя поднебесной, и благодаря систематической и целенаправленной работе властей общество было готово к их восприятию. Поэтому история для китайского руководства - это эффективный инструмент воздействия на общество, апеллирование к которому служит залогом успешности того или иного политического курса, а ссылки на историю Китая в Конституции [3, c. 6], основного закона страны, прямое тому доказательство. Так, в Преамбуле Конституции КНР говорится о том, что Китай является страной, чья история — одна из древнейших в мире, а все населяющие Китай народы создали великую культуру. Закреплено стремление превращения Китая в сильную, процветающую, высококультурную, социалистическую страну. Конституция КНР закрепляет и подчёркивает особую роль культуры и истории страны, сумевшей не только сохранить богатейшее наследие прошлого, но и превратить его в предмет национального единения, средство сплочения китайской нации. Статья 22 Конституции КНР: «Государство стоит на защите объектов, представляющих культурную и историческую ценность, памятников культуры и реликвий, других предметов, являющихся ценным историческим и культурным наследием Китая» [3, c. 13].
Бесспорно, что китайское общество живёт не только и не столько настоящим, текущими событиями, но и своей историей. В истории китайцы находят важное измерение, позволяющее китайской цивилизации развиваться по спирали, совершенствуясь, не повторяя пройденные при этом этапы. История воплощена, прежде всего, в историческом знании, но помимо этого также и в культурном достоянии, обширном комплексе опредмеченной и нематериализованной культуры. При этом насильственное устранение какого-либо элемента культуры или же искажённая интерпретация прошлого, могут привести не только к «реставрации» прежних порядков, но и к деградации общества в целом, что происходило во время «Культурной революции» в Китае. Именно поэтому Китай предпринимает особые усилия по сохранению своей культуры и истории, являющихся гарантами гармоничного развития Китая, подтверждением этому служит совершенствование КНР в области правовой защиты культурного наследия.
Так, 25 февраля 2011 Китай сделал важнейший шаг по усилению контроля в сфере охраны памятников культуры и истории, когда был принят первый закон о нематериальном культурном наследии Китая, подытожив почти 10-летнюю работу над этим значимым для КНР документом. Ещё в августе 2004 года Китай официально присоединился к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия после ратификации Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Конвенция ЮНЕСКО [4, c. 1] даёт исчерпывающее определение понятию нематериальное культурное наследие: «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, - а также инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, связанные с ними - признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и человеческого творчества».
Естественно, что вопрос о сохранении нематериального культурного наследия имеет для Китая, и в первую очередь именно для Китая, как многонационального государства, с уникальной культурой и традициями, неоценимое значение в деле сплочения и самоидентификации нации. Однако, с углублением экономических реформ и, как следствие, ускорением в Поднебесной процессов глобализации, столь губительно отражающихся, прежде всего на нематериальной культуре, многие элементы культурного наследия не только трансформируются, но и утрачиваются. Таким образом, правовое регулирование охраны нематериального культурного наследия КНР, безусловно, крайне необходимая мера на современном этапе развития китайского общества.
中华人民共和国非物质文化遗产法 [7, c. 1] состоит из 6 частей: 1. Общие положения. 2. Исследования нематериального культурного наследия. 3. Фонды нематериального культурного наследия. 4. Распространение и передача нематериального культурного наследия. 5. Юридическая ответственность. 6. Приложение.
中华人民共和国非物质文化遗产法 направлен на сохранение подлинности и целостности культурного наследия, закон должен способствовать повышению культурной самобытности китайской нации, способствовать сохранению национального единства и социальной гармонии китайского общества. Закон запрещает искажение, а также использование в неблаговидных целях нематериального культурного наследия Китая. Согласно 中华人民共和国非物质文化遗产法 [7, c. 2], Госсовет КНР и местные правительства должны создать списки объектов нематериального культурного наследия на национальном и местном уровнях для более эффективной защиты и охраны культурного достояния. Поощряется рациональное использование элементов национальной нематериальной культуры в производстве продуктов и предоставлении услуг, что будет способствовать распространению китайской культуры в целом. Новый закон также оговаривает, что иностранные организации или индивиды, которые проводят обследования нематериального культурного наследия в Китае, обязаны будут получить разрешение от органов власти, по меньшей мере, на уровне провинции. Все проводимые на территории Китая исследования проводятся только совместно с китайскими исследовательскими институтами. В случае нарушения закона, предусмотрены штрафы для иностранцев от 100,000 до 500, 000 юаней для юридических лиц и от 10,000 до 50,000 юаней для физических. В документе также подчеркивается необходимость усиления финансовой поддержки со стороны местных органов власти в деле охраны нематериального культурного наследия страны.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |




