Как заработать свои первые деньги?
Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи
Моей alma-mater был Коми пединститут, где меня учили очень добрые педагоги, которых я буду помнить с благодарностью всегда.
Сейчас, преподавая дисциплины коми и финно-угорского лингвистического цикла в СГУ, я невольно сравниваю пединститут с университетом. С самого открытия университета преподавание в нем коми филологических дисциплин было поставлено на качественно более высокую ступень. Да и само отношение ректората к специальности «коми филология» было повышенно предупредительным, даже пристрастным. Это проявлялось во всем. Даже в том, что на рекламных щитах, развешенных по городу, и в объявлениях, размещавшихся на страницах республиканских и районных, а также соседних с Коми областных газет о наборе студентов в 1972 и в последующие годы в перечне специальностей на первом месте указывалось – коми язык и литература. План приема студентов на нее был установлен – 25 человек, а не 12, как это было в практике Коми пединститута, откуда эта специальность была переведена в университет. В учебном плане СГУ для подготовки коми филологов были введены такие солидные курсы, как введение в финно-угроведение, историческая грамматика коми языка, сравнительная грамматика коми и удмуртского языков, стилистика коми языка, венгерский язык, финский язык. Этих дисциплин учебный план пединститута, конечно же, не предусматривал.
Первый ректор СГУ, профессор свои выступления о единственном на Северо-Востоке Европейской части страны университете неизменно начинала с того, что для СГУ специальность «коми филология» является изюминкой. Ректор не уставала напоминать ту истину, что физиков и биологов готовят во всех вузах мира, а исследователей коми филологии – только в нашем.
К слову сказать, лучшие из лучших студентов коми кафедры ежегодно с 1975 года переводились для продолжения обучения на факультет журналистики Ленинградского, Московского и Уральского университетов. И в этих университетах у коми студентов стремление к знаниям не угасало. И там они оказывались в числе лучших, и многие из них были рекомендованы для поступления в аспирантуру или продолжения обучения в зарубежные вузы. Таким образом Людмила Семенчина из Визинги после трех лет обучения в Сыктывкарском и полутора лет в Ленинградском университетах оказалась в Колумбийском университете Нью-Йорка, в семинаре известного финно-угроведа профессора Роберта Аустерлица, побывавшего в 1985 году в Сыктывкаре на VI международном конгрессе финно-угроведов и выступавшего с докладом на пленарном заседании по проблемам пермских языков. Аустерлиц высоко оценил уровень подготовки Людмилы Семенчиной, в беседе с ней с благодарностью вспоминал о теплых встречах в СГУ, о ректоре профессоре Витязевой, проректоре доценте Браче, о профессоре А. Микушеве и пожелал успехов далекому коми университету, жителям коми земли.
В 1975 году руководство СГУ для организации кафедры коми филологии пригласило доктора филологических наук , отдавшего много сил для постановки научной работы на факультете и в университете, умершего в январе 1993 году в своем рабочем кабинете. Университет создавался на пустом месте. Поэтому не было в нем не только методических работ по коми филологии, не было самих тезисов коми художественной литературы. Мне хорошо помнится, как мы с профессором обследовали книжные магазины Корткеросского, Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского районов с целью закупки коми книг для ведения научной и учебной работы.
Руководство СГУ не жалело средств для приглашения ученых из других научных центров для чтения лекций студентам коми отделения. С первых лет существования университета коми студенты слушали лекции не только ученых Коми филиала АН СССР , , . Перед ними выступали и профессор из Москвы, профессор Карой Рэдэи из Вены, профессор Райя Бартэнс из Хельсинки, профессор Сиркка Сааринен из Турку, профессор Янош Пустаи из Сомбатхея (Венгрия), профессора И. Тараканов, В. Кельмаков, Р. Насибуллин (Ижевск), профессор А. Китиков, В. Акцорин (Йошкар-Ола), проф. А. Борисов, В. Макушкин (Саранск), профессор Аго Кюннал (Тарту), доктор Адольф Туркин, Ану Хаузенберг (Таллинн). Университетский уровень преподавания проявился и в том, что студенты ежегодно выезжали на фольклорно-диалектологическую практику не только в районы Коми республики, но и в места обитания коми диаспоры – в Тюменскую, Мурманскую, Пермскую области. Благодаря студенческим экспедициям наладились контакты коми диаспоры с метрополией. Из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов появился поток абитуриентов на специальность «коми филология». В этом году четверо обучавшихся из сел Ханты-Мансийского округа успешно закончили СГУ, двое из них рекомендованы для поступления в аспирантуру. В Салехарде, в педколледже работает преподавателем коми языка выпускница СГУ, ныне аспирантка кафедры коми и финно-угорского языкознания Тамара Лапландер, уроженка с. Мужи Ямало-Ненецкого округа.
Коми студенты ежегодно выезжают на межвузовские научные конференции в Петрозаводск, в Тарту, Санкт-Петербург, Москву, Йошкар-Олу, Саранск, Пермь, Ижевск. Лучшие из лучших удостаивались выезда за границу на летние месячные курсы венгерского языка (Дебрецен), финского языка (Хельсинки, Еэнсуу, Куопио, Раума).
В 1990 году прием студентов на специальность «коми филология» был увеличен вдвое, доведен до 50 человек. Но фактически было принято 58 человек. А через год был открыт прием на отделение заочного обучения, с планом приема 25 человек. Таким образом, на специальность «коми филология» в настоящее время план приема составляет 75 человек. Университетский уровень преподавания не замедлил сказаться не только на знаниях выпускников, но (что особенно важно) – на возрастающем из года в год конкурсе абитуриентов – коми филологов. Это, несомненно, свидетельство высокой отдачи выпускников СГУ, работающих в средних школах, гимназиях, лицеях, колледжах республики.
При словах «храм науки» в моем сознании предстает прежде всего Сыктывкарский университет, где трепетно и очень щедро растят будущее страны, в числе которых достойное место отводится исследователям, будущим специалистам по коми и финно-угорской филологии.
БЛИКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Более десяти лет мне пришлось в разных ипостасях, но неизменно на общественных началах, заниматься информатизацией. Твена, можно сказать, что восьмидесятые были годами, когда слова "энтузиаст" и "дурак" еще не были синонимами. Смена идей и людей в процессе информатизации происходила как в калейдоскопе. Сейчас, пожалуй, никто кроме меня не сможет проследить весь путь становления и падения информационно-вычислительного центра университета, рассказать о той роли, которую сыграл этот центр в становлении самого университета, в формировании его авторитета как ведущего вуза Республики Коми. Это обстоятельство и подвигло меня запечатлеть на бумаге некоторые воспоминания из совсем еще свежей истории.
Когда я приехал по приглашению ректората в Сыктывкарский университет, там ломали голову над чуть ли не философским вопросом: "Нужно ли создавать свой вычислительный центр или лучше арендовать машинное время по мере необходимости?". Ректорату явно претили доводы профессора о том, что иметь университету свой вычислительный центр совершенно ни к чему. Кафедра прикладной математики, которую я тогда возглавил, занималась методами оптимизации. Численная реализация этих методов требовала использования ЭВМ, обладающих значительными вычислительными ресурсами. Университет арендовал машинное время в «Комилеспроме» (ЭВМ ЕС-1022). Время выделялось лишь глубокой ночью. Так что нашим пользователям приходилось возвращаться с вычислительного центра под утро и после бессонной ночи обеспечивать учебный процесс. В то время именно это обстоятельство побудило меня поддержать идею о создании своего вычислительного центра. Университет имел две устаревших и маломощных ЭВМ "Мир-1" да два табулятора, на которых проходили вычислительную практику студенты экономического факультета. Эти машины обслуживались группой молодых специалистов, которые в скором времени составят ядро коллектива вычислительного центра: , , . В то время была расхожей фраза: "Скажи, какая у тебя ЭВМ, и я скажу, кто ты". Конечно, мы мечтали о наиболее распространенной тогда модели машин единой системы - ЭВМ ЕС-1022, не догадываясь еще, что через какие-нибудь пять лет она безнадежно устареет. Я и сейчас считаю, что приобретение университетом относительно недорогой машины "Наири-3-1" было удачей. Эта машина была введена в эксплуатацию в конце 1978 года. Небольшой коллектив прошел весь путь от подготовки помещения до реализации полноценного рабочего режима. По представлении в Министерство акта о запуске "Наири-3-1" мы получили двадцать с лишним ставок для обеспечения двухсменной работы новой машины. Это событие и надо считать началом информационно-вычислительного центра. Как известно, одним из принципов создания, например, автоматизированных систем управления является, так называемый, принцип первого руководителя. Ибо создание таких систем – дело трудное, а их полезность далеко не всем очевидна. Можно сказать, принцип первого руководителя (или руководителей) эффективно был реализован на практике формирования ИВЦ Сыктывкарского университета. Ректор университета и тогдашний проректор по науке рассматривали создание информационно-вычислительного центра как важнейшую и первостепенную задачу. Ощущая их постоянную поддержку по всем вопросам, связанным с информатизацией, коллектив работал вдохновенно, не считаясь с личным временем. Рос парк ЭВМ. Были приобретены две мини-ЭВМ "Мера-60". Совершенно случайно выявилась возможность приобретать через прямые поставки (минуя наше Министерство) диалоговые системы на базе микро-ЭВМ "Электроника Д3-28", которые были прообразом современных персональных ЭВМ. Правда, сходство фактически исчерпывалось элементом персональности. Тем не менее, именно на базе этих ЭВМ, приобретаемых нами поэтапно за счет бюджетных и хоздоговорных средств, в 1984 году была создана лаборатория микро-ЭВМ, под которую нам неожиданно выделили дополнительный штат в количестве восьми единиц. Середина восьмидесятых годов проходила под лозунгом интенсификации народного хозяйства, одним из рычагов которой была автоматизация производства и управления с использованием ЭВМ. Резко повысился спрос на людей, занимающихся вычислительной техникой и информатизацией. Одна государственная кампания сменяла другую. Так, начиная с 1985/86 учебного года, в школах страны был введен обязательный предмет "Основы информатики и вычислительной техники". Нужно было в срочном порядке подготовить сотни учителей республики для преподавания информатики. Благодаря своевременному созданию лаборатории микро-ЭВМ, ИВЦ СГУ был единственным подразделением в нашей республике, готовым к проведению этой "акции". Университет был определен соответствующими министерствами базовым вузом Коми АССР по подготовке и переподготовке учителей общеобразовательных школ в области информатики. К началу указанного учебного года прошли переподготовку по 72-х часовой программе и получили простейшие сертификаты более трехсот учителей.
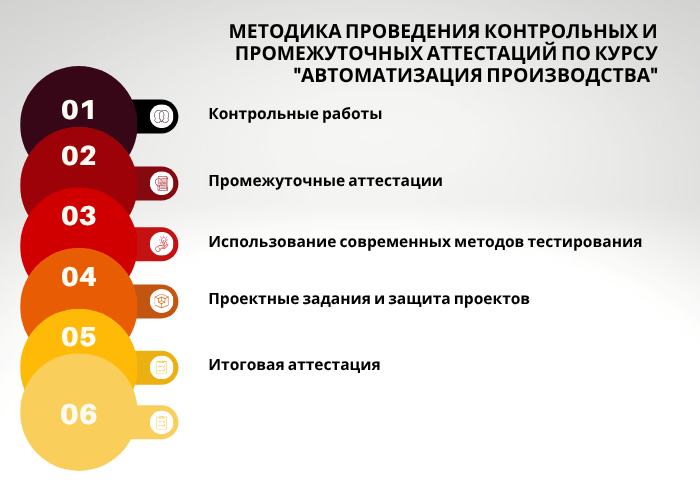
Годом раньше на базе той же лаборатории микро-ЭВМ был открыт факультет "Микро-ЭВМ и микропроцессоры" Народного университета научно-технического прогресса, функционировавшего при Сыктывкарском Доме техники. Обучение было рассчитано на один год. Факультет работал в течение четырех лет. Все эти годы мне пришлось быть деканом названного факультета. Через год после его открытия мы организовали еще один факультет – "Программное обеспечение ПЭВМ", деканом которого стал доцент . Душою обоих факультетов был доцент . Через названные факультеты "прошли" около трехсот работников народного хозяйства и преподавателей университета. Преподавание осуществлялось за символическую плату, что и привело к прекращению деятельности названных факультетов, когда к энтузиазму стали относиться как к одной из форм глупости.
Кроме обучения азам информатики на регулярной основе, нами проводились семинары, конференции, выездные лекции на предприятиях Сыктывкара и других городов республики. ИВЦ СГУ участвовал в работе над программой интенсификации "Сыктывкар-90", курируемой горкомом партии. По итогам этой работы мне и ответственному исполнителю от университета, , названный партийный орган вынес официальную благодарность. При Сыктывкарском Доме книги в 1986 году был создан клуб технической книги "Прогресс-2000", который функционировал в течение пяти лет, и все эти годы мне довелось быть председателем совета клуба. Активными членами совета были доценты и , а также тогдашний ректор университета, профессор . В клубе ежемесячно встречались ученые и писатели, рабочие и министры, издатели и домохозяйки. Без преувеличения скажу, что это были приятные, полезные и интересные встречи. Нужно ли говорить, что дежурной темой бесед была информатизация! Именно благодаря одной из таких встреч появилось первое в республике пособие для учителей "Введение в информатику", авторами которого стали , (оба из пединститута), , (оба из университета).
Между тем университет не прекращал попыток приобрести большую ЕС ЭВМ, ибо ресурсов "Наири-3-1" было явно недостаточно для обеспечения научной деятельности и, особенно, для автоматизации управления вузом. Дело в том, что стандартное программное обеспечение подсистем АСУ ВУЗ было рассчитано на ЭВМ единой системы. Но вузы, как и генералы, делятся на элитные и неэлитные. И вот нам предложили взять на баланс университета подержанную ЭВМ ЕС-1050, работавшую до этого на ВЦ Горьковского (ныне – Нижегородского) университета. В этой модели ЕС ЭВМ была сделана попытка реализовать на микроэлектронной базе принципы работы замечательной отечественной машины БЭСМ-6. Попытка оказалась неудачной. Машина получилась слишком громоздкой и неустойчивой в работе. Злые шутники сравнивали ее с Царь-пушкой. Для размещения машины требовался зал площадью в 200 квадратных метров. Машину нужно было доставить своими силами из Горького. И вот тут проявилась кульминация энтузиазма и работоспособности молодого коллектива ИВЦ СГУ. Сразу по принятии решения взять машину на баланс СГУ, была создана комиссия во главе с , конечной целью которой был рабочий запуск ЭВМ ЕС-1050. Комиссия собиралась еженедельно по средам, работала четко и слаженно, как единый организм. Машина была введена в эксплуатацию в 1986 году. Со времени ее запуска приказом ректора был официально легализован ИВЦ СГУ, как структурное подразделение университета, а я был назначен его начальником. Для меня это было всего-навсего общественным поручением. Мои иногородние коллеги говорили, что так не бывает, однако так было, и я нисколько не жалею об этом, а, наоборот, благодарен судьбе... Доставка машины из Горького была осуществлена группой наших сотрудников во главе с . Мне и сейчас приятно вспоминать, с каким восторгом отзывался начальник вычислительного центра Горьковского университета о наших людях. "Это было как десант. Работали четко, быстро, молча. Делай что угодно, но таких работников надо сберечь!" При этом надо сказать, что в последнее время машина в Горьком больше была в ремонте, чем работала. И когда, год спустя, будучи в Горьком на конференции, я одному из сотрудников Горьковского центра напомнил, как он не верил, что нам удастся запустить "Царь-пушку", тот в ответ бесстрастно заметил: "А я и сейчас не верю". Этим все сказано.
Машина работала нормально в течение еще четырех лет. Последнюю "порцию" штатных единиц привезла из Москвы сама ректор . Но этому окончательному штатному расписанию ИВЦ СГУ уже не суждено было быть заполненным. Мы теряли кадры с катастрофической быстротой, ибо ту зарплату, которую университет мог им предложить, наши конкуренты перекрывали "в разы". На смену ЕС-1050 "из рук" министра мы получили ЭВМ ЕС-1036, о которой в свое время не могли и мечтать. Но судьба у этой машины была "горькой" – не отработав и четверти своего срока, она пошла на драгметаллолом. Персональные компьютеры в режиме реального времени "смели со своего пути" махины стационарных вычислительных центров. Они позволяли решать принципиально новые задачи, которые в глобальном исчислении должны были привести к построению информационного общества. Возникла потребность в интеграции специалистов с целью разработки новых концептуальных подходов к проблеме информатизации, созданию программ региональной и федеральной информатизации и изысканию путей практической реализации этих программ.
В 1987 году я возглавил вновь созданную кафедру математического моделирования и кибернетики и стал отходить от дел ИВЦ СГУ, роль которого свелась к ремонтным работам в классах, где были установлены персональные компьютеры, и к решению ряда рутинных задач управления вузом. В 1989 году состоялся Учредительный съезд Всесоюзного общества информатики и вычислительной техники (ВОИВТ). Меня избрали членом Центрального правления. По возвращении в Сыктывкар мною была инициирована Коми Республиканская конференция с целью создания регионального отделения ВОИВТ. Прошедшая на базе университета конференция учредила Коми отделение ВОИВТ и избрала инициатора председателем правления. Неудобно говорить, но мы с энтузиазмом взялись за работу. Оформили все регистрационные документы, укомплектовали штат и приступили к разработке концепции информатизации Коми АССР. Регулярно созываемые в различных городах Союза заседания Центрального правления приносили много новой информации, заряжали оптимизмом. В мае 1990 года на базе Коми научного центра УрО АН СССР состоялась республиканская конференция по обсуждению и принятию концепции информатизации Коми региона. Эта концепция основывалась на соответствующей концепции информатизации общества в целом, но учитывала региональный аспект. Концепция была одобрена конференцией практически без поправок. Тем же коллективом (, , ) с участием московских представителей была разработана уже на платной основе и программа информатизации Коми АССР. Она была одобрена в соответствующих структурах в Москве, но дальнейшее развитие событий похоронило и это начинание. Распад Союза привел, естественно, к прекращению деятельности и ВОИВТ, как Союзной общественной структуры. Кстати, тогда же пали и такие Союзные монстры как политизированное общество "Знание" и НТО, под эгидой которых так же проводилась какая-никакая информатизация. Вялая попытка возродить Общество в рамках Российской Федерации не увенчалась успехом. Пришлось "закрываться". Никаким моим нагрузкам на ниве информатизации не сравниться по напряжению с тем, что мне пришлось испытать при процедуре "закрытия" Коми республиканского отделения ВОИВТ. Вот, например, два штриха. Сверхвысокооплачиваемый "почтальон Печкин" из Госбанка мне менторски внушает: "Я не могу закрыть ваш счет, пока в горисполкоме не ликвидируют вашу структуру. Но ликвидировать структуру не могут, пока я не закрою вам счет. Я вам объяснил, остальное – ваши проблемы". Одна дама из горисполкома (с лицом неуютным для мысли) с подкупающей откровенностью мне заявляет: "Мы не уважаем ученых". Тогда для меня это откровение показалось диким, но оно оказалось пророческим...
Десятилетие компьютерного романтизма было на исходе, когда меня увлек еще один проект. Комитет по высшему образованию организовывал сеть региональных Центров НИТ (новых информационных технологий). Этот проект привлекал тем, что под Центры НИТ выделялись штаты и соответствующая техника. В частности, сразу же по создании Центра обещали бесплатно передать ему класс современных персональных компьютеров. Забегая вперед, скажу, что с классом ПЭВМ надули, как, впрочем, и с другими посулами. Но тогда мы еще об этом не подозревали. Ведь "как бы жизнь нас не учила, сердце верит в чудеса". За трехдневный срок мною были подготовлены все необходимые документы и получена мощная поддержка от председателя Правления ВОИВТ, академика . В мае 1991 года Коми региональный Центр НИТ был создан на базе Сыктывкарского университета. Декларировалось, что он будет "способствовать повышению уровня и эффективности образования, науки, управления путем развития и совершенствования структуры информатизации указанных отраслей, а также посредством изготовления, презентации, рекламирования, распространения продукции по НИТ и организации обучения пользователей». Первым директором Коми РЦ НИТ Госкомитетом НВШ РСФСР был назначен я, поскольку мною готовились заявительные документы, но оставался таковым совершенно недолго, рекомендовав на эту должность моего ученика . Через два года его сменил , а еще через два года директором стал . Разумеется, я не буду оценивать работу моих коллег. О самом же Центре НИТ я здесь упомянул, во-первых, для полноты картины и, во-вторых, чтобы закончить рассказ об ИВЦ СГУ. Последний был поглощен Центром НИТ в бытность директором . Так начинался и закончился Информационно-вычислительный центр Сыктывкарского университета, который в свое время был гордостью ректората и местом непременного паломничества всех высокопоставленных гостей СГУ.
В области информатизации, как видно из того, что я наговорил, менялось все, как блики на воде, и оказалось многое таким же нереальным. Казалось, что вот-вот поднимутся заводы-гиганты в Молдавии и Белоруссии. Мы ждали завод компьютеров в Сыктывкаре. Ну что ж "иных уж нет, а те далече". Но все же это было прекрасное время. Мы были романтиками и сделали все, что могли. Кто может, пусть сделает лучше!
ПОМОГАЛА РЕАЛЬНО И ДЕЙСТВЕННО
В 1971 году я закончила филологический факультет Ленинградского университета. Все студенческие годы - с первого курса – я занималась изучением древнерусской литературы, каждое лето вместе со своими товарищами по научному семинару – замечательного педагога и ученого – ездила по северным старообрядческим деревням Архангельской области в поисках старинных рукописей и свою будущую жизнь связывала только с изучением средневековой русской литературы. Поэтому была счастлива, получив место в Пермской областной библиотеке им. М. Горького, где имелся значительный фонд древнерусских рукописей и старопечатных книг, но не было специалистов для работы с ними. Вместе со своей подругой и однокурсницей почти пять лет я занималась организацией отдела редких книг в этой прекрасной библиотеке и продолжала собирательскую, археографическую работу, исколесив всю Пермскую область на маленьком библиотечном «уазике», добывая для библиотеки старообрядческие (по преимуществу) рукописные книги. Все эти годы я мечтала поступить в аспирантуру и продолжить учебу, очень хотелось также передавать свои знания другим, однако работа в библиотеке не оставляла для этого надежды – кандидат наук там был не нужен, а во всех вузах Перми древнерусскую литературу читали в лучшем случае фольклористы, и никакой научной работы с собранными нами рукописями пермские студенты не вели. Жилищные условия тоже оставляли желать лучшего: крошечная комната в 6 кв. метров с русской печкой, никаких удобств, а главное, – никаких надежд на изменение этой ситуации. Поэтому к осени 1975 года я пребывала в печальных раздумьях о своей дальнейшей судьбе. И она, наконец, улыбнулась мне: однажды я получила телеграмму из Ленинграда с просьбой срочно позвонить моему научному руководителю . Очень хорошо помню, как в процессе чтения этой абсолютно ни о чем не говорящей телеграммы я внезапно догадалась, что за ней стоит мой переезд в другой город, расставание с друзьями, совершенно другая работа. Так оно и оказалось! А городом, который ждал меня и стал постепенно родным, был Сыктывкар, где освободилось место ассистента на кафедре русской литературы в совсем молодом Сыктывкарском университете, которому от роду было менее 4-х лет. Принципиальное положительное решение было мною принято мгновенно, даже без использования традиционного времени «на раздумье», но надо было все-таки познакомиться с городом, о котором я тогда мало что знала, с моими будущими коллегами и получить гарантии относительно будущей учебы. И вот в темные зимние дни начала декабря я отправилась в тайный (от библиотечного начальства) вояж в столицу Коми. Тогда-то и произошла моя первая встреча с Валентиной Александровной Витязевой. Детали этой встречи не сохранились в памяти, осталось лишь общее впечатление очень уверенной в себе женщины, очень точной, обещаниям которой вполне можно верить (а все, о чем я мечтала – жить в теплой комнате, преподавать любимую древнерусскую литературу и закончить очную аспирантуру, мне было обещано). Я с самого начала понимала «шестым чувством», что делаю правильный выбор, и даже неожиданное заявление тогдашнего заведующего кафедрой русской литературы (которого я знала еще по Ленинградскому университету: в бытность мою студенткой он работал лаборантом на кафедре советской литературы), что он «помогать мне не будет, но и мешать тоже», не смогло повлиять на мое решение. Валентина Александровна сдержала свои обещания: накануне нового 1976-го года я получила от нее телеграмму с официальным приглашением на работу, а через два с половиной года – целевую аспирантуру в Ленинградском университете.
Очень хорошо помню начало моей работы в Сыктывкаре. На меня, еще совсем неопытного преподавателя, помимо курса древнерусской литературы «обрушились» сложнейшие курсы теоретико-литературного цикла, руководство научным семинаром студентов, курс литературы XVIII века. Спасала основательная база знаний, полученных в Ленинградском университете и поддержка бывших преподавателей: по пути в Сыктывкар я заехала в Ленинград и встретилась с моими учителями – профессором , известным ученым, по учебнику которого «Основы стиховедения» до сих пор все студенты-филологи постигают азы этой сложной литературоведческой дисциплины, с моим научным руководителем , под началом которой впоследствии я защитила свою кандидатскую диссертацию, а затем защитились и несколько моих первых учеников – , , также ставшие преподавателями СГУ, с моим учителем по работе с древними рукописями – , создателем знаменитого Древлехранилища Пушкинского Дома, который был искреннее рад тому, что я еду работать именно в Сыктывкар, так как всю свою жизнь он посвятил изучению уникального заповедника старинной книжности, который с XVII века формировался в низовьях Печоры (современный Усть-Цилемский район Республики Коми). На всю жизнь я запомнила его сердечные напутствия мне – продолжить его работу по собиранию старинных рукописей на Печоре, привлечь к этой работе студентов. Это была моя последняя встреча с Владимиром Ивановичем, так как через несколько месяцев его не стало…
Воодушевленная поддержкой ленинградских учителей и однокурсников, нагруженная подаренными и вновь закупленными книгами, я приехала в морозный зимний Сыктывкар, тут же простудилась и первую свою лекцию читала с температурой. Своеобразным символическим подтверждением правильности выбранного мною пути стали для меня неожиданные кадровые перемены на нашей кафедре: одновременно со мной заявление о приеме на работу в кабинет Валентины Александровны принесла Таисия Яковлевна Гринфельд, которую я как студентка ЛГУ хорошо знала - она читала нам самый «страшный» курс - литературу народов СССР, а теперь – вместо – стала заведующей нашей кафедры в Сыктывкарском университете, быстро найдя с большинством сотрудников, выпускников ЛГУ, общий язык. А дальше для меня начались бесконечные бессонные ночи (подготовка к занятиям) и радостные мгновенья общения со своими первыми учениками, которых я была старше всего на несколько лет…
С самого начала своей работы в Сыктывкарском университете я ощутила столь важную для меня тогда поддержку не только коллег по кафедре и заведующей, но и высшего руководства, которое мне представлялось в те годы неким заоблачным Олимпом, к которому следовало обращаться только в случае крайней необходимости. Но таких случаев поначалу просто не возникало, так как все мои идеи и нововведения по части приобщения студентов к древнерусской литературе не встречали никакого препятствия. Поэтому я воспринимала все, что происходило, как само собой разумеющееся и только много времени спустя поняла, что могло быть и совсем по-другому.
В первое же лето своей преподавательской работы с небольшой группой своих первых учеников-«древников» я отправилась на археографическую практику в Пермь – надо было закончить работу в этом регионе, которая во многом держалась на мне, а заодно и поучить студентов трудному искусству разыскивать и приобретать старинные книги. Среди этих «первых», кстати, были известный ныне в Сыктывкаре журналист и (Ильина), впоследствии много лет проработавшая директором университетского издательства и отредактировавшая много наших филологических статей и сборников, в том числе и мое первое большое учебное пособие.
С 1977 года начались наши со студентами ежегодные поездки на Печору, продолжавшиеся почти пятнадцать лет. И здесь мы нашли полную поддержку и понимание у нашего ректора, казалось бы, столь далекого от филологических проблем, тем более от такой еще совсем молодой и многим мало известной тогда прикладной науки как археография. Но Валентина Александровна сразу поняла значение нашей собирательской работы для истории культуры Коми Республики, богатой, как оказалось, не только полезными ископаемыми, но и памятниками духовной культуры северного крестьянства. Поэтому ежегодно все новые и новые студенты вливались в ряды «искателей старины». Не получали отказа в финансировании и студенты других университетов – Ленинградского, Нижегородского, которые хотели нам помочь и тратили свои студенческие каникулы не на отпуск у моря, а на странствия по печорским деревням. В результате сложилось своеобразное «братство» печорских археографов, со своим «уставом» и традициями, которое притягивало не только студентов, но и маститых ученых, которые с удовольствием принимали участие в наших экспедициях, способствуя усилению их результатов и заражая студентов своей любовью к древнерусской литературе и старообрядческой книге. В разное время в наших экспедициях приняли участие доктор филологичеких наук (Пушкинский дом), доктор исторических наук (Библиотека Академии наук), кандидат филологических наук (научный сотрудник Отдела рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде). Из каждой экспедиции мы привозили ценные находки, которые позднее становились объектом изучения самих же участников экспедиции. В результате к 1990 году фонд усть-цилемских рукописных и старопечатных книг в Научной библиотеке СГУ, созданный благодаря нашим находкам, составил 376 единиц хранения. В «горниле» экспедиций «ковались» и будущие научные кадры: студенты, прикоснувшиеся к поисковой работе, подержавшие в руках старинные книги, редко уходили в другие семинары, предпочитая исследовать печорские рукописи.
Первые два года работы дали мне и моих первых настоящих учеников, которые выросли в талантливых исследователей и притягательных для студентов преподавателей – и , ныне уже докторов наук и профессоров.
Незаметно подошел срок плановой аспирантуры, и я с большим изумлением обнаружила, что столь радужная для меня еще недавно перспектива пожить в Ленинграде в кругу студенческих друзей, вернуться к старым любим учителям и родным хранилищам древних рукописей сильно омрачилась другой перспективой – расставания с Сыктывкаром, к которому уже приросло сердце, с моими любимыми учениками. Но, как выяснилось, настоящего расставания не произошло, так как пришлось, находясь в аспирантуре, руководить их дипломными работами, принимать их «делегации» в Ленинграде, ездить принимать экзамены в Сыктывкар. Так что три года прошли незаметно, тем более что в последние месяцы меня активно поддерживал , приехавший на стажировку после защиты диплома, поселившийся напротив меня в аспирантском общежитии и регулярно сочувственно наблюдавший мои ночные бдения в комнате для занятий над моей диссертацией о «Казанской истории». Кстати, и тему моей кандидатской диссертации я тоже нашла в Сыктывкаре. , активно вовлекшая всю нашу кафедру в изучение литературных описаний природы, заставила и меня искать оные в древнерусской литературе. Пересмотрев большое количество текстов, в которых никаких «природоописаний» не было, я, наконец, радостно вздохнула, обнаружив их в большом количестве в объемистой повести XVI века о взятии Казани Иваном Грозным, а помогла мне увидеть в этом замечательном произведении будущий объект моих диссертационных исследований.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |


