Как заработать свои первые деньги?
Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи
«Открытие» мира и человека на закате эпохи Возрождения (на примере новеллы Мигеля де Сервантеса Сааведра «Лиценциат Видриера»).
ГУМАНИЗМ
Почему эту эпоху назвали именно так? Возрождение. Что же возрождалось?
В эпоху возрождения повысился интерес к античности. Люди того времени пытались воскресить античную культуру, которая казалась им образцом, достойным подражания, в отличие от культуры Средневековья. Само понятие «Средние века» появилось именно на рубеже XIV–XV веков. Им обозначали мрачный, по мнению современников, период упадка. Упадка образования, литературы и искусства, который отделял людей Возрождения от милой их сердцу античности. Возвращение к античным канонам во всем – в языке, поэзии, драме, философии, в архитектуре и искусстве – стало лозунгом времени.
Увлечение античностью захватило общество. Ученые, богатые горожане и аристократы коллекционировали подлинные предметы старины – утварь, уцелевшие произведения скульптуры, античные монеты и медали, пытаясь воссоздать обстановку греческого или римского дома с его мебелью и убранством.
Первым, что следовало возродить, очистив от средневековых напластований, был язык, несовершенство и «испорченность» которого осознавали современники. Образцом для подражания им служила «золотая» латынь классических авторов – лаконичного Цезаря и красноречивого Цицерона.
Писатели и поэты эпохи Возрождения придавали огромное значение красоте и соблюдению правил латинского языка. Неверно употребленный падеж мог погубить репутацию автора в глазах многих людей его круга. Умение произнести экспромтом витиеватую речь ценилось так высоко, что города–соперники переманивали друг у друга хорошего знатока латыни, предлагая за него серьезные политические уступки.
Ученые подражали древним авторам в приверженности к созданию исторических сочинений, биографий великих людей и мемуаров.
Пожалуй, девиз современников был таким: Я поклоняюсь только двум богам – Христу и словесности!
Возрождение интереса к античной философии привело к тому, что в отличие от средневековых теологов, всецело поглощенных размышлениями о Боге, мыслителей XV–XVI веков все больше привлекал человек – его природа, способности, место в мире. В университетах стали пользоваться популярностью дисциплины, исследующие человеческую натуру, общественное устройство, вопросы этики – науки о жизненных целях, поведении и воспитании.
Предметы эти именовались «studia humanitatis». Отсюда и произошел термин «гуманизм», который отражает новый характер философии эпохи Возрождения. Ученых и интеллектуалов, интересовавшихся этими вопросами, стали называть гуманистами. Таким был и М. де Сервантес Сааведра.
Человек виделся гуманистам прекрасным и гармоничным существом, истинным подобием Бога. Он должен быть всесторонне образованной личностью, склонной к наукам, литературе, искусствам, музыке, развитой физически. Его красота и подлинное благородство заключалось в добродетелях, которые следовало воспитывать с юношества, – честности, доблести, патриотизме и самоотверженном служении своему государству, а также в стремлении к творчеству.
Философия гуманизма признавала естественное право человека преследовать собственные интересы – индивидуализм (при том условии, что он не выродится в примитивный эгоизм и не нарушит всеобщей гармонии, поскольку зло, причиненное другим, не приносит счастья).
Один из главных лозунгов гуманизма: «Человек – не игрушка в руках слепой Фортуны, а хозяин своей судьбы».
Гуманисты считали, что нужно назвать человека «венцом природы», поскольку он единственный из существ на Земле наделен Разумом.
Возрождение – это попытка познать земную сущность человека, законы окружающего мира и способы их гармоничных взаимоотношений.
Гуманисты считали, что человек рождается идеальным, наделенным разумом и жаждой гармонии и добра. Они считали, что зло, насилие, пороки и ложь берутся из плохого воспитания. Нужно научить человека направлять свой разум не на злые, а на добрые дела. Очень наивно. Гуманистам казалось, что они легко сумеют убедить других людей в необходимости строго следовать законам «гармоничной» природы. Описать эти законы попытались писатели эпохи Возрождения, в числе которых были Боккаччо, Микеланджело и Мор, Франсуа Рабле и Николо Макиавелли. Сервантес следовал некоторым законам гуманизма, но некоторые и оспаривал. Например, он считал, что Боккаччо слишком иронично относится к церковным служителям. Ему казалось, что в новеллах Боккаччо слишком легкомысленно говорится об очень серьезных проблемах…
Но именно эпоха Возрождения породила и такое страшное явление, как индивидуализм, стремление человека любой ценой добиться в мире успеха лишь для себя одного. Показав силу золота, гуманисты не думали о том, что страсть к его обладанию окажется сильнее любых доводов Разума. Художественный мир произведений Сервантеса, увы, выглядел не таким гармоничным, каким он представлялся первым гуманистам.
Меня так заинтересовала философия гуманистов, что я решила проанализировать новеллу Сервантеса «Лиценциат Видриера». Мигель де Сервантес Сааведра… Пожалуй, это имя известно сейчас каждому человеку. А даже если и неизвестно, то даже самый маленький ребенок знает великий роман «Дон Кихот». А точнее, великий роман «Хитроумный идальяго Дон Кихот Ламанчский». Также известны знаменитые пьесы «Алжирские нравы» и «Нумансия». Эти пьесы оставили свой след в истории испанского театра.
Сервантес пишет новеллы. Одна из его новелл – «Лиценциат Видриера», анализ которой я провожу в этой работе.
Сервантес был гуманистом и приветствовал многие взгляды писателей итальянского Возрождения, или Ренессанса, как называют иногда Возрождение, используя его итальянское название. Взгляды гуманистов сильно проявляются в новелле «Лиценциат Видриера», даже не зная того, что Сервантес был гуманистом, можно понять это, прочитав его мудрую новеллу.
Испанский писатель создал новый вид новеллы. Это обстоятельное, развернутое повествование, в котором на примере одного–единственного конкретного события показывается гуманистический взгляд на решение какой-нибудь важной проблемы и содержится поучение читателям.
Самое главное в новеллистике Сервантеса – это характеры персонажей, характеры, которые писатель оценивает с позиций европейского Возрождения.
В новелле «Лиценциат Видриера» ставится вопрос об истинных и мнимых ценностях, о гармонии человеческой личности.
Чем мне понравилась новелла «Лиценциат Видриера» М. де Сервантеса? Сервантес углубляется в рассуждения, пытается убедить читателя в своей правоте. Сервантес профессионально использует технику слова.
Новеллу «Лиценциат Видриера» очень интересно читать. Читая, можно понять точку зрения автора, так как она очень ярко выражена. Я думаю, что при создании новеллы у Сервантеса была идея убедить читателя в своей правоте, привить ему свои убеждения и взгляды. В эпоху Ренессанса это было очень важно, так как гуманисты пытались привлечь на свою сторону как можно больше народа, а Сервантес, как мы помним, был гуманистом.
ОБРАЗ ЛИЦЕНЦИАТА ВИДРИЕРЫ
Образ Томаса Родахи до его помешательства
В новелле «Лиценциат Видриера» ставится вопрос об истинных и мнимых ценностях, о подлинной гармонии человеческой личности. Ее герой – человек, лишившийся этой гармонии по причине тяжелого заболевания. Томас Родаха во многом воплощает идеал гуманистов: он глубоко образованный человек, обладающий хорошими манерами, его чувства контролируются разумом, блестящий ум и наблюдательность делают его интересным собеседником… Но болезненная мания лиценциата резко противопоставляет его остальным людям: Томас Родаха искренне убежден, что он сделан из стекла, и мучительно боится, как бы его нечаянно не разбили. Сервантес не просто представляет своим читателям «странного героя», он одновременно испытывает остальных людей: смогут ли они увидеть его подлинные достоинства или болезненная мания обрекает его на роль шута.
В мире живут миллиарды людей, число жизней на нашей планете недавно перевалило за семь миллиардов. Говорят, что сколько людей, столько и точек зрения. Действительно, в литературе все относительно. Вот мы разбираем какое-то произведение. Какой-то вопрос может стать причиной раздора между учениками всего класса. Кто-то думает одно, кто-то – другое. Но правды нет, мы не можем узнать правильный ответ, хотя конечно же пытаемся. Так же мы и не можем сказать точно, каким был Томас Родаха. Это было известно, наверное, только ему. Я же считаю, что он был весьма довольным учеником Саламанки и мог бы стать великим ученым.
« Мальчик сказал, что его зовут Томас Родаха, а потому хозяева на основании его имени заключили, что он, должно быть, сын какого-нибудь бедного крестьянина.
…Томас доказал, что обладает редкими способностями, причем своим хозяевам он служил с такой верностью, точностью и усердием, что, ни на йоту не поступаясь занятиями, производил впечатление, будто он ничего кроме службы не делает; и так как добрая служба раба склоняет господина обращаться с ним милостиво, Томас вскоре стал не слугой, а товарищем своих хозяев. По истечении восьми лет, проведенных у них, он приобрел такую славу в университете благодаря значительным способностям, что самые разные люди его любили и уважали. Занимался он главным образом законами, но с особенным блеском проявил себя в гуманитарной науке. Была у него такая счастливая память, что все диву давались. К тому же он украшал ее своим тонким умом и не менее славился им, чем своей памятью»
Такое описание Томаса дает Сервантес. На меня Томас произвел положительное впечатление. Впечатление, что он благодарный молодой человек. За то, что его взяли учиться, он хорошо работает на своих хозяев (причем своим хозяевам он служил с такой верностью, точностью и усердием, что, ни на йоту не поступаясь занятиями, производил впечатление, будто он ничего кроме службы не делает), не жалея своих сил. Вскоре он стал товарищем своих хозяев, так как наверняка давал хорошие советы и усердно работал. Так же мое мнение в положительную сторону склоняет то, что Томас жаждал знаний, а это всегда идет на пользу. Я вижу это в этом абзаце: «Случилось так, что хозяевам его настало время окончить свое ученье и вернуться к себе домой, в один из лучших городов Андалусии. Они взяли с собой Томаса и прожили вместе с ним некоторое время; но его так мучило желание вернуться к своим занятиям в Саламанку (а она заколдовывает желанием приехать обратно волю всех, кто вкусил от приятностей тамошней жизни), что он попросил у хозяев позволения вернуться. Эти последние по учтивости и щедрости своей ему не отказали и обеспечили Томаса таким образом, что на данные ему средства можно было прожить три года». Почему они так вознаградили его? Я пришла к выводу, что они сделали это из-за того, что он был хорошим слугой, исправно работал и заслуживал благосклонность своих хозяев на протяжении всех этих долгих лет. Тем более, я уверена, что они знали, как Томас жаждет знаний.
Положительное впечатление поддерживается еще одной вещью.
Капитан, назвавший себя доном Диего де Вальдивья, пришел в восторг от приятной внешности, ума и лоска Томаса и стал просить его отправиться вместе в Италию, хотя бы только из любопытства посмотреть на страну, предлагая ему свой стол, а если окажется нужным, то и место знаменосца, так как поручик его скоро освободит…
…он сказал капитану, что охотно поедет в Италию, при том, однако, условии, что его не зачислят в отряд и не внесут в солдатские списки, иначе он будет обязан всюду следовать за отрядом.
И хотя капитан его убеждал, что состоять в списке еще ничего не значит, что таким образом он мог бы пользоваться пособием и жалованьем, выплачиваемым полку, а кроме того, получать отпуск всякий раз, как того попросит, Томас сказал:
– Это значило бы поступить наперекор своей совести и совести сеньора капитана, а поэтому я хочу быть свободным и независимым.
Я пришла к выводу, что Томас Родаха является по-настоящему честным человеком, который не привык жульничать и избегать своих обязанностей. Об этом сами за себя говорят слова: «он сказал капитану, что охотно поедет в Италию, при том, однако, условии, что его не зачислят в отряд и не внесут в солдатские списки, иначе он будет обязан всюду следовать за отрядом» Из этого выходит, что если его внесут во все списки и зачислят в отряд, он не будет нарушать все установленные правила и будет ходить за отрядом, если того требуют правила. Так же он вежлив. Это выходит из его реплики «Это значило бы поступить наперекор своей совести и совести сеньора капитана, а поэтому я хочу быть свободным и независимым»
Обращение «сеньор капитан» – вежливое. Томас заботится о своей совести и совести своего нового знакомого-капитана, это тоже плюс.
Томас любопытен. Я решила так, потому что заметила такие слова: «Все это он рассмотрел, на все обратил внимание и все оценил как следует» Значит, он действительно обращает внимание на окружающий мир и старается заметить и узнать о нем как можно больше. Однако жажда знаний в нем горит сильнее, чем жажда путешествий. Удовлетворив таким образом свое желание посмотреть чужие страны, Томас решил возвратиться в Испанию и закончить в Саламанке свое ученье.
Личность Томас очень вежливая и обаятельная, он легко заводит себе друзей. Я решила, что это так, прочитав сии строки: И вот он снова в Саламанке, где его очень хорошо встретили друзья, и благодаря заботам, которыми они его окружили, он продолжал свои занятия и получил степень лиценциата прав.
Образ Лиценциата во время безумия
Томас отравился толедским мембрильо[1], которое ему принесла женщина, приехавшая в этот город и которая в него влюбилась. Она хотела приворожить его, однако у нее не получилось и она лишь отравила Томаса.
Он сильно заболел.
В недобрый час съел Томас этот мембрильо, ибо сейчас же стало ему сводить руки и ноги, как у больных родимчиком. Он провел несколько часов, не приходя в сознание, по истечении которых стал как обалделый и, заикаясь, заплетающимся языком рассказал, что его погубил съеденный им мембрильо, причем указал того, кто его ему дал.
Родимчик – болезненный припадок, сопровождающийся судорогами и потерей сознания.
Шесть месяцев пролежал Томас в постели и за это время иссох и обратился, как говорят, «в одни кожу да кости»; по всему было видно, что все чувства у него не в порядке, и хотя ему была оказана всяческая помощь, его вылечили только от болезни тела, а не от повреждения разума: после выздоровления он остался все же сумасшедшим, причем сумасшествие это было одним из самых удивительных.
Несчастный вообразил, что он сделан из стекла, а потому, когда к нему подходили, кричал страшным голосом, умоляя и прося вполне разумными словами и доводами к нему не приближаться, иначе он разобьется, ибо он действительно и на самом деле был не как все люди, а от головы до пят из стекла.
Дабы вывести его из этого странного заблуждения, многие, невзирая на крики и моления, подскакивали и обнимали его, прося убедиться и посмотреть, что он не разбивается, однако добивались они этим только того, что бедняга бросался на землю, испуская бесконечные крики, и немедленно впадал в забытье, продолжающееся часа по четыре, а когда приходил в себя, то снова начинал свои просьбы в другой раз к нему не подходить.
Это очень серьезные симптомы. Женщина очень сильно отравила его, так как состояние лиценциата действительно стало очень серьезным. С некоторыми больными трюк, которые проделывали многие посетители лиценциата, прошел бы. Они бы убедились, что с ними все в порядке, но повреждение Томаса было очень опасным и серьезным, так как он, как сказал автор, лежал в забытье иногда часа по четыре, а когда приходил в себя, то снова начинал свои просьбы в другой раз к нему не подходить.
Я думаю, что когда Сервантес выдумывал болезнь лиценциата прав Томаса, он отталкивался от выражений «разбить сердце» и «разбить жизнь». Женщина своей любовью отравила мир лиценциата, сделала его калекой, пусть и умным и мудрым калекой. Она, можно сказать, вместо фрукта в своих руках, когда она подносила его Томасу, держала в руках его жизнь, а жизнь человека хрупка, ее очень легко уронить и разбить, а больше ведь уже не вернешь… Она разбила его сердце, а без сердца Томас сам стал стеклянный. Я всегда знала, что сердце человека даже более хрупкое, чем его жизнь. Как стекло. Раз – и все. Оно разлетелось на мелкие осколки, разлетелось маленькими кусочками по разным уголкам света, и ничто больше не будет напоминать о том, что когда-то оно было единым целым…
Томас предлагал разговаривать с ним издалека и задавать ему любые вопросы: он, мол, на все ответит, так как сделан не из мяса, а из стекла – а в стекле, веществе тонком и хрупком, душа работает гораздо быстрее и лучше, чем в теле, землистом и тяжелом.
Если Томас так говорил, значит, он задумывался о душе уже в момент, когда был безумен. Зачем ему было размышлять о том, в каком теле душа работает быстрее, – в теле из мяса или стеклянном теле – когда он был здоров?
Он свято в это верил.
Некоторые пожелали проверить, правду ли он говорит, и стали задавать ему вопросы относительно многих трудных предметов, на что он отвечал охотно и чрезвычайно находчиво, – обстоятельство, вызывавшее удивление у самых ученых университетских людей и у преподавателей медицины и философии, видевших, что человек, страдающий поразительным помешательством и воображающий себя стеклянным, обладает столь тонким разумом, что остро и точно отвечает на каждый вопрос.
Томас подтвердил свою веру, что душа в стеклянном теле работает быстрее. Я считаю, что болезнь, вызванная острым отравлением, поразила не весь его мозг, а лишь отдельную его часть. Другая же часть его мозга осталась целой и, воспользовавшись слабостью другой части, стала использовать ее ресурсы и работать быстрее, мобильнее и сильнее, чем раньше.
Тем не менее, болезнь была далеко не так безобидна, как покажется сначала человеку, который впервые читает эту новеллу. Томас знал, что стеклянного человека в окружающем мире (даже в той комнатке, в которой он находился во время болезни) ждет множество опасностей, даже маленькие неприятности могут стать для стеклянного существа смертельными.
Впрочем, лиценциат нашел выход из сложившейся ситуации, воспользовавшись своим великолепным, острым и быстрым умом.
Томас попросил подарить ему чехол, чтобы облечь в него хрупкий сосуд своего тела: он боялся, что узкая одежда его искалечит; ему дали серое одеяние и очень широкую рубаху, которую он надел с большой осторожностью и опоясался веревкой из хлопка; башмаков он не пожелал вовсе.
Для того чтобы получать пищу с значительного расстояния, он завел такой порядок: к концу палки он прикреплял соломенный футляр для урыльника, в который клали какие-нибудь плоды, бывающие в данное время года, – ни мяса, ни рыбы он не любил, пил только из ручья или реки и то рукой; а когда шел по улице, то всегда держался середины и косился на крыши, опасаясь, как бы сверху случайно не свалилась черепица и не разбила его.
Даже в своем странном состоянии безумия Томас Родаха был находчив и внимателен, это можно видеть в вышеупомянутых отрывках.
Летом он спал в поле, под открытым небом, зимой забирался на постоялый двор и зарывался на сеновале по горло, говоря, что это самое подходящее и надежное ложе, которое могут пожелать для себя стеклянные люди. Когда гремел гром, он дрожал, как человек, отравленный ртутью, убегал в поле и не возвращался в город до окончания грозы.
Все странности лиценциата выходят из одного – из одной лишь болезни, настигшей его.
Когда он проходил однажды по лоскутному ряду Саламанки, к нему обратилась одна продавщица платья:
– Вот вам крест святой, сеньор лиценциат, у меня душа болит, глядя на ваше несчастие. Только что поделаешь: плакать не могу!
Тот повернулся к ней и мерно произнес:
– «Filiae Hierusalem, prolate super vos et super filios vestros»[2]
Муж тряпичницы понял соль этого ответа и воскликнул:
– Друг мой, лиценциат Видриера, да вы, я вижу, скорее плут, чем сумасшедший!
– А мне это все равно, лишь бы я только дураком не был, – отрезал тот.
Несмотря на свой недуг, несчастие, как сказала тряпичница, Томас сохранял ясный ум и всегда держал свою точку зрения. Из-за того, что он был тяжело болен, стража почти не обращала на него внимания и никогда не наказывала. Люди толпами ходили за лиценциатом Видриерой, задавая ему различные вопросы и слушая его острые точные ответы, в которых отражалось все его отношению к предмету разговора. Например:
Однажды его спросили: «По какой причине поэты, по большей части, бывают бедными?»
– А потому, что сами хотят, – отвечал Видриера, – ведь богатства сами плывут к нам в руки, и им следовало бы только использовать то, что у них каждую минуту находится перед глазами. Ведь они только и делают, что воспевают дам, буквально заваленных всякими богатствами: ибо волосы у них – из золота, лоб – из сверкающего серебра, глаза – из зеленого изумруда, зубы – из слоновой кости, губы – из коралла, шея – из прозрачного хрусталя; дамы эти плачут жидким жемчугом, а почва, по которой они ступают, будь она даже совсем сухая и бесплодная, мгновенно порождает жасмины и розы; дыхание их – чистейшая амбра и мускус. А все эти вещи неопровержимо и ясно указывают на большое богатство.
Или:
В другой день Видриера, приняв большие предосторожности, чтобы не разбиться, подошел к книжной лавке и сказал:
– Ремесло это мне очень по вкусу, не будь в нем, однако, одной заковырки.
Книготорговец попросил сказать, какой именно. Тот ответил:
– А вот всех тех выкрутасов, которые вы проделываете, покупая у автора права на книгу, да еще ваших издевательств в том случае, если он печатает книгу на свой счет, так как вместо тысячи пятисот экземпляров вы печатаете три тысячи, и тогда писатель думает, что в продажу поступают его книги, на самом деле продаются чужие.
Если посмотреть, то Видриера говорит сплошными афоризмами, которые приковывают к нему внимания. Эти его афоризмы обнажают всю суть человека той или иной профессии или же склада характера. Я уважаю Видриеру за его непосредственность и бесстрашие перед тем, что он говорит то, что думает.
Все эти и другие замечания по поводу разных ремесел и занятий были причиной того, что за чудаком всегда ходили люди, не причинявшие ему особенного зла, но зато и не оставлявшие его в покое; тем не менее он едва ли сумел бы защитить себя от мальчишек без охраны приставленного к нему сторожа.
Я считаю, что лиценциат Видриера был душевно очень силен, так как имел острый ум и мудрость, которая обычно накапливается в человеке уже к закату лет, когда человек уже прожил жизнь. Видриера рассуждал, как человек, проживший много лет, я считаю, что роль в этом сыграла его учеба, его жажда знаний и, как ни странно, его невероятный недуг. Тем не менее, этот же недуг делает его физически очень слабым, так как он падает в обморок в тот же самый момент, как до него кто-либо пальцем дотронется, он ведь боится, что может разбиться.
В тексте есть такие слова:
Одним словом, Видриера высказывал такие суждения, что, не будь всех этих криков при первой же попытке подойти к нему или протянуть к нему руку, не будь этого странного одеяния, ограничений в еде, забавной манеры пить, желания летом спать под открытым небом, а зимой – на сеновале, никто бы ни на минуту не усомнился в том, что лиценциат – один из самых умных людей на свете.
После своего излечения лиценциат Видриера стал принимать посетителей у себя на дому, но вскоре посетителей стало очень мало, а потом они вообще исчезли. Мне кажется, что это из-за того, что раньше Томас не боялся высказывать свое истинное мнение. Он говорил то, что думает, не размышляя, за это он и получил уважение сограждан. Теперь же, когда он снова стал нормальным, он стал думать над своими ответами и говорить так, как считает нужным, чтобы не обидеть задающего вопрос.
Таким образом, я считаю, что Томас-безумец не так уж и сильно отличается от себя в здравии. Оба Томаса имеют острый быстрый ум и очень горды, имеют степень лиценциата прав, знают законы. Разница лишь в том, что Томас-безумец имеет странные для человека привычки.
ЗАЧЕМ СЕРВАНТЕС ВВОДИТ В НОВЕЛЛУ МОНАХА?
Два года с небольшим продолжалась эта болезнь, а потом один монах ордена св. Иеронимо, с удивительным искусством и ловкостью учивший немых говорить и понимать чужую речь и излечивший людей от сумасшествия, сжалился над несчастным и, приступив к делу, успешно и полностью достиг своей цели, вернув бедолаге прежнюю силу суждения, разум и связность мыслей. Убедившись в выздоровлении Видриеры, монах велел ему надеть платье юриста и возвратиться в столицу, дабы проявить свой ум в таком же блеске, в каком он прежде проявлял свое безумие, заняться своим делом и стяжать себе этим славу.
Как же монаху удалось вылечить Томаса? Монаху ордена св. Иеронимо было не привыкать лечить несчастных больных, как следует из вышеуказанного текста. Он делал это, как говорится, с удивительной ловкостью и сноровкой, в которой указывается явное наличие опыта. Значит, ему не безразлична судьба людей, это заслуживает похвал. Но почему же именно он вылечил Томаса Родаху? Почему не какой-то особенный лекарь, не придворный врач или же не какой-нибудь шаман или другой ученый? Мне кажется, что как раз в этом моменте и отразилось то, что самого Сервантеса спасли из алжирского плена монахи.
В самом же поведении Томаса скользит уважение к монахам. Например, его слова, которые он говорит на площади перед народом, когда возвращается в город уже нормальным и совершенно здоровым: «Злоключения и несчастия, происходящие с нами по соизволению свыше, лишили меня разума; милосердный Господь помог мне обрести его вновь». Значит, монах привил Томасу какую-то еще более сильную веру.
В церкви лечат болящие души людей. У Лиценциата Видриеры болела душа – он был закован в стекло, не видел мир в его истинной красоте. Монах при помощи молитв избавил Томаса от этой оболочки из стекла, показал ему реальный мир..
ИДЕАЛЫ ГУМАНИСТОВ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ОБРАЗЕ ЛИЦЕНЦИАТА ВИДРИЕРЫ
Сервантес, как раньше упоминалось, был гуманистом, как и Боккаччо, с утверждениями которого Сервантес часто спорит. Идеал гуманистов – образованная, раскрепощенная личность, осознающая себя частью природы и стремящаяся установить гармонические отношения с другими людьми. Гуманисты искренне верили, что человека надо оценивать не по его происхождению или социальному положению, но только по его личным качествам. Гуманисты смело изображали жестоких королей, алчных священников, глупых аристократов, безжалостных ростовщиков; они воспевали ум, расчетливость, находчивость и доброту любого человека – князя и крестьянина, богача и ничего.
Так что же, Томас Родаха – идеал гуманистов?
В чем-то он, конечно же, их идеал. Но суть в том, что идеала быть не может, даже идеала гуманистов. Люди такими не рождаются. Человеку дается душа, она дается ему, чтобы он совершенствовал ее. Гуманисты же верили, что человек рождается с идеальной душой, которая портится впоследствии.
Теперь давайте проанализируем образ Томаса Родахи (см. схему №1)
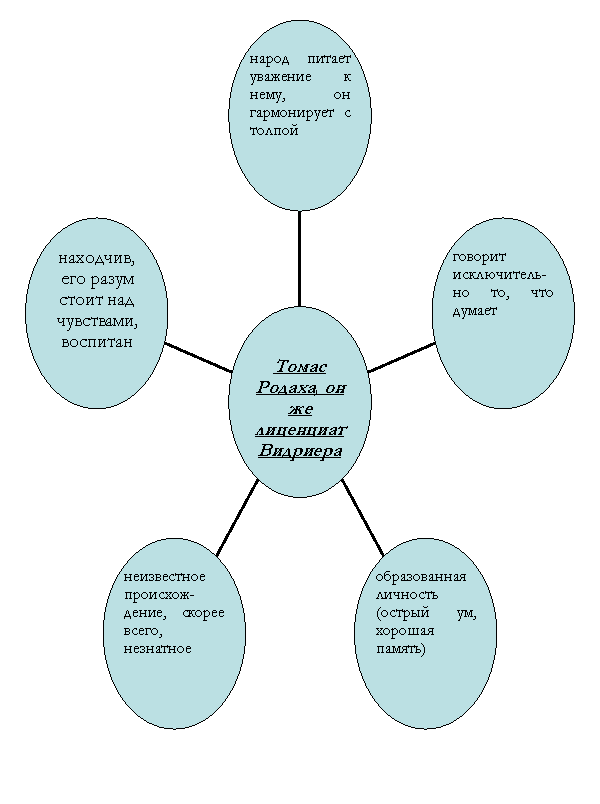
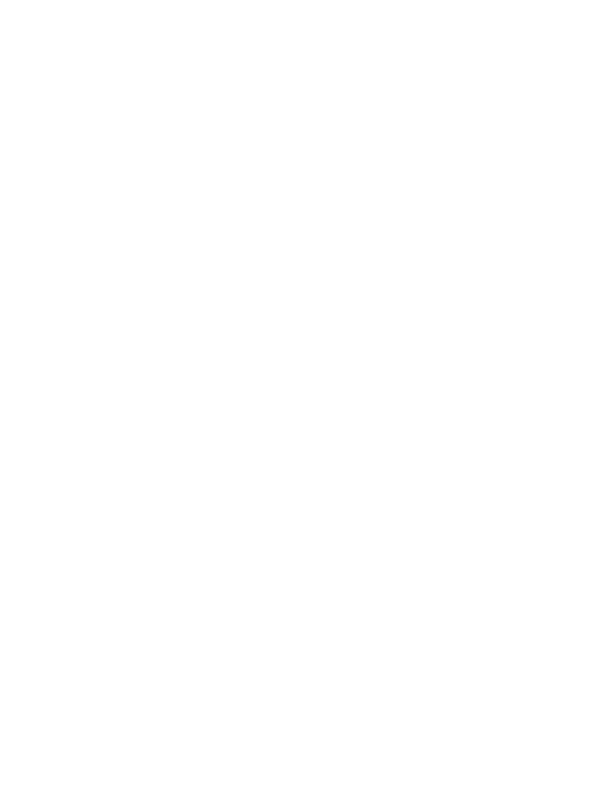
Сравним образ лиценциата с идеалом гуманистов (см. схему №2)
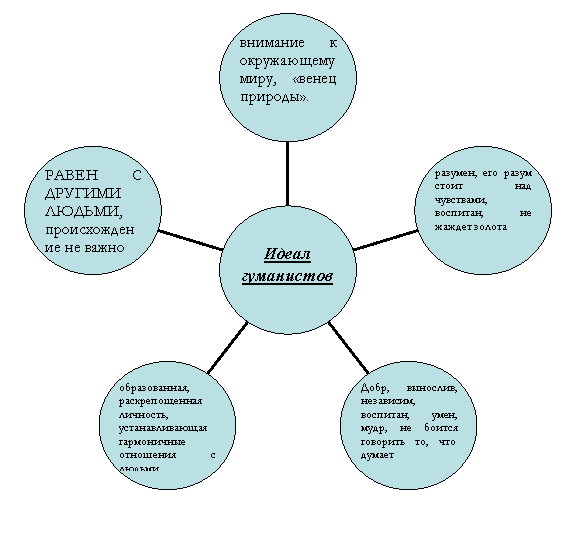
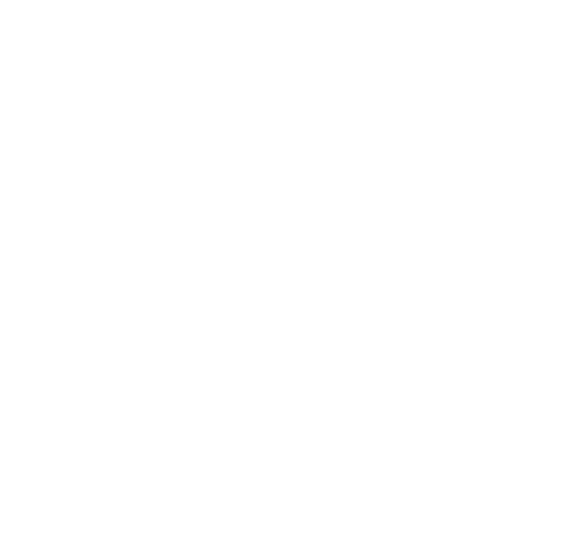
Итак, лиценциат Видриера (он же Томас Родаха) – находчив, его разум стоит над чувствами, так что он контролирует их, воспитан, образован. Говорит исключительно то, что думает, не скрывает своих истинных чувств и эмоций. Независим (это видно в его фразе «Мне все равно, лишь бы я не был дураком» в ответ на фразу «Вы, похоже, скорее плут, чем сумасшедший!»), мудр (примером тому его ответы-афоризмы), отношения с людьми имеет довольно гармоничные, благодаря своей приятной внешности и легкому характеру имеет много друзей. Находчив.
Некоторые моменты совпадают с идеалом гуманистов. Основным пунктом идеала является то, что ИДЕАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН С ОСТАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. У лиценциата же такого нет. Взять к примеру тот случай, когда Томас Родаха заговорил с погонщиком мулов. Он сказал: «По хозяину и слуга честен: скажи нам, кому ты служишь, и тогда сразу обнаружится, достоин ли ты почета». То есть он совершенно спокойно относится к тому, что есть люди-хозяева, а есть люди, которые обязаны служить хозяевам. Мало того, он решает, почитать ли человека по его хозяину. Это точно не совпадает с идеалом гуманистов. Или же тот пример, когда он встретился с ученым рангом поменьше его. Видриере было известно, что у этого человека нет даже степени бакалавра, а потому он сказал ему: «Оберегай, дружище, свой титул от встречи с монахами, выкупающими пленных: отберут они его у тебя как бродягу!» Томас показал свое превосходство в знаниях перед ним, сказав: «Я знаю только то, что в отношении наук вы – Тантал, ибо по высоте своей они от вас ускользают, а по глубине своей – для вас недоступны».
Идеал гуманистов должен контролировать свои чувства, разум его должен стоять над ними. Мне кажется, что это не совпадает. Когда-то Томас не слушает свой разум, например, в этом моменте: «Дуэний Видриера ненавидел в такой же мере, как и любителей крашеных бород. Он рассказывал чудеса про всякие их permafoy, про их накидки, похожие на саван, про их жеманство, прихоти и необычайную скаредность; они донельзя раздражали его своими вечными ссылками на нежность своего желудка и головокружения, а заодно и своей речью, которую они пересыпают такими завитушками, каких даже у них на токах не сыщешь; возмущался он также их никчемностью и невозможным привередничаньем». Из этого выходит, что Видриера не совсем сдерживает свои чувства. «Возмущался он также их никчемностью и невозможным привередничаньем». Значит, он не скрывал свои чувства, показывал их, выдавал в своих речах.
Находчивость. Находчив ли Видриера? Да! Идеал гуманистов должен быть находчив? Да! Находчивость Видриеры проявляется хотя бы в том, как он выходит из разных неудобных положений. Взять к примеру случай, когда он был безумен. Его укусила оса.
Однажды его ужалила в шею оса. Видриера не решался стряхнуть ее, опасаясь разбиться, и горько жаловался на боль. Кто-то заметил при этом, что стеклянное тело никак не может страдать от укуса.
– Эта оса, наверное, сплетница,– сказал Видриера. – а язык и жало сплетника поражают не только стеклянные, но и бронзовые тела!
Значит, Видриера выкрутился из положения. Или же когда он только стал безумным.
Для того чтобы получать пищу с значительного расстояния, он завел такой порядок: к концу палки он прикреплял соломенный футляр для урыльника, в который клали какие-нибудь плоды, бывающие в данное время года…
Значит, Видриера сам придумал такой способ и активно использовал его. Из этого выходит, что он проявлял чудеса сообразительности и находчивости даже во время, когда он был безумен.
Происхождение. Гуманисты утверждали, что не важно, какого происхождения человек. Истинный идеал может быть сыном раба, а может быть и сыном короля. Известно ли нам происхождение Томаса Родахи? Нет. Автор не дает нам этой информации. В самом начале новеллы кабальеро задают мальчику вопрос, из какой он страны, он же не ответил. Не ответил даже, чей сын, но из имени его кабальеро сделали вывод, что Томас может быть сыном бедного крестьянина. Происхождение Томаса не играет в этой новелле никакой роли.
Образованная личность. Томас Родаха – образованная личность. С одиннадцати лет он учился в Саламанке, а потом, после своего помешательства, стал ходить по городу и разговаривать, он выдавал умные фразы, говорил на латыни. Это совпадает с идеалом гуманистов. Образованность в облике Томаса Родахи есть.
Не жаждет золота. Жаждет ли Томас золота? Нет, это тоже черта идеала гуманистов. После своего излечения он стал жить в доме, но он не стремился за золотом и деньгами. «Увидев, что вскоре ему придется помирать с голоду, он решил покинуть столицу» Он ушел только после того, как увидел, что вскоре он может умереть от голода. Значит, до того времени он не гонялся за золотом, не жаждал его, из сего выходит, что деньги ему нужны исключительно для пропитания.
Так Лиценциат Видриера – идеал гуманистов?
Нет.
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ, ОТРАВИВШЕЙ ЛИЦЕНЦИАТА
«Любовь зла» – говорят писатели, режиссеры, философы, поэты и просто обычные люди. Она бывает радостной, взаимной, жестокой, злой и подлой. Она имеет миллиарды лиц. Нет одинаковых историй о любви. Любовь сыграла свою роль и в новелле «Лиценциат Видриера».
Случилось, что в это время приехала в этот город одна весьма искушенная в своем деле жрица любви.
Кто такая эта женщина? Это куртизанка, которая, купаясь в роскоши, привыкла, чтобы все ее желания исполнялись. Она влюбилась в Томаса, значит, должна была заполучить его любой ценой. Мы знаем, что Томас не хотел посещать ее добровольно из этих слов: «Томасу передали, что дама эта бывала в Италии и во Фландрии. Он явился к ней посмотреть, не знакомая ли. После этой встречи и посещения выяснилось, что она влюбилась в Томаса, а он не обратил на нее внимания и – если товарищи его насильно не приводили – не желал даже заходить к ней в дом». Она, видимо, рассудила так: «Если он не влюбляется в меня по доброй воли, значит, влюбится не по доброй, а насильно!»
Увидев, что ею пренебрегают и, по-видимому, даже гнушаются и что обычными и естественными средствами нельзя было сломить каменной воли Томаса, куртизанка решила изыскать иные приемы, на ее взгляд более действенные и достаточные для осуществления своих желаний.
Она напоила его каким-то зельем!
Но, как указано далее, на свете не существует ни трав, ни заговоров, ни слов, влияющих на свободу нашей воли, а потому все женщины, прибегающие к любовным питьям и яствам, являются просто-напросто отравительницами, ибо на самом деле оказывается, что люди, попадающиеся на эту удочку, неизменно получают яд, как то подтвердил опыт во множестве отдельных случаев.
Но была ли любовь женщины к Томасу настоящей? Ответить на этот вопрос довольно легко.
Власти, узнав о случившемся, отправились разыскивать злодейку; а та, увидев, что дело плохо, скрылась в надежное место и никогда уже больше не появлялась.
Любовь ее к Томасу не была настоящей. Если бы она была настоящей, то эта отравительница осталась бы рядом с Томасом и помогла бы ему вылечиться, но вместо этого она скрылась, заботясь о своей жизни и судьбе.
РОЛЬ ДИЕГО ДЕ ВАЛЬДИВЬЯ В НОВЕЛЛЕ
Зачем Сервантес ввел в новеллу образ дона Диего де Вальдивья? Какую роль он играет в судьбе Томаса Родахи? Что ж, давайте разбираться.
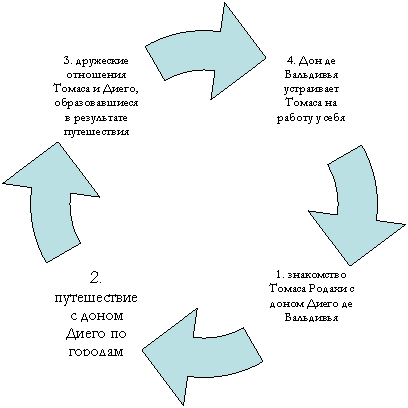
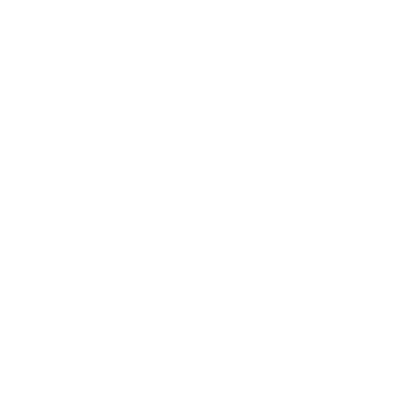
Я считаю, что роль Диего де Вальдивья в этом произведении очень важна. Зачем Сервантес ввел в свою новеллу образ дона Диего? Почему он встречает Томаса Родаху в нужное место и в нужное время? Что задумал автор, когда создавал образ капитана?
За время путешествия с доном Диего де Вальдивья они с Томасом стали товарищами, так что Томас мог положиться на капитана в случае беды, которая с ним случилась. Путешествие с капитаном произошло как раз перед тем, как Томаса отравила женщина, которая бывала во Фландрии, то есть в подходящее время – Томас уже успел понять, что капитан хороший человек и он может на него положиться.
…он покрыл себя славой военной, отличившись под командой своего друга, капитана Вальдивьи…
В этом отрывке указано, что капитан был его другом.
Я считаю, что он спас Томаса, так как принял его под свое командование в трудную минуту. Диего де Вальдивья – один из самых важных героев новеллы, хотя встречается на страницах так редко.
Библиография
1. Учебник « Литература» 7- 9класс. Авт.- сост. ,
, . Москва « Дрофа». Учебная статья
2. Краткий словарь литературных терминов. Учебник « Литература» 7 класс.
3. Учебник – хрестоматия. Под редакцией ,
4. . В лаборатории словесности.
5. Художественный текст.
6. Интернет-ресурсы.
7. Энциклопедический словарь юного литературоведа. Сост. , Е. А. Шкловский. М.: Педагогика-Пресс, 1998
[1] Толедское мембрильо – разновидность айвы
[2] «Дочери иерусалимские, плачьте о себе и о детях ваших. Евангелие от Луки


