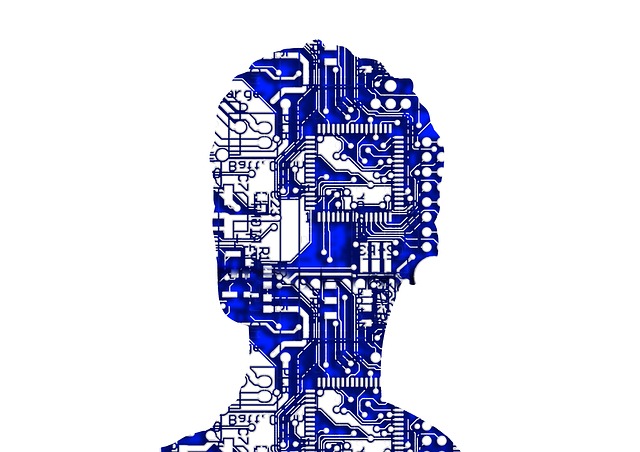Среднее значение данного индекса равно 0,77. Наибольшее значение индекс получил в Ростовской области (1,41), наименьшее – в Иркутской области (-0,12). По степени консолидации городских элит вошедшие в выборку регионы можно условно сгруппировать следующим образом (см. диаграмму 1):
консолидированная городская элита — Ростовская область (1,41);
слабоконсолидированная городская элита — Удмуртия, Ленинградская, Челябинская области (1,03);
«группа риска» - Ярославская область (0,7) – при значении, близком к среднему по выборке, имеет тяготение к расколу;
элита в состоянии раскола — Иркутская область, Приморский край.
Надо сказать, что ситуация более сильного противостояния характерна для малых и относительно крупных городов. В средних городах элиты наиболее консолидированы, а для городов-миллионников практически не свойственны конфликтные взаимоотношениях в городских элитах.
Здесь же отметим, что в малых городах значительная часть респондентов (24%) затруднились с ответом на этот вопрос.
Диаграмма 5. Рейтинг регионов по степени консолидированности элит

Рассмотрим возможные причины консолидации/фрагментации городских элит на конкретных примерах, полученных в ходе проведения исследования в регионах, включенных в выборку.
Ростовская область (города Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск)
Как видно из вышеприведенных данных городские элиты Ростовской области характеризуются наибольшей степенью консолидации. Внутриэлитные конфликты в данном регионе можно считать явлением достаточно редким.
Причина этого, по мнению участников исследования, заключается в том, что общественно-политические процессы в данном регионе находятся практически под полным контролем областного руководства. Команда губернатора Ростовской области (который сам ранее был руководителем областного центра) уже более полутора десятилетий обеспечивает себе гарантированное позитивное отношение как со стороны административного и бизнес-сообществ, так и со стороны населения. Это вызвано как монополизацией основных политических ресурсов со стороны правящей группы, так и относительно грамотным ведением административно-политической работы и экономической деятельности.
Таким образом, в городах Ростовской области, особенно в областном центре, можно наблюдать сложившиеся и тесно взаимосвязанные административно-политические и экономические (бизнес) элиты, находящиеся под патронажем (являющиеся клиентелой) региональной элиты. Можно даже утверждать, что в социальном механизме Ростовской области элиты исследованных городов составляют часть элиты региональной, так как они подчинены ее общим формальным и неформальным правилам, выполняют порученные им функции (либо действуют в отведенных им областях) в общерегиональных интересах.
Одновременно, в рамках общерегиональной элиты созданы механизмы «сдержек и противовесов», гибкой ротации и передвижения кадров (перевод городских чиновников в регион, а региональных – в города), оказания содействия в разрешении конфликтов и решении сложных вопросов.
Экономическая жизнь в регионе также демонстрирует низкую конфликтность. Областному руководству удалось создать работающий внутренний рынок, наладить связи с другими регионами Федерации таким образом, что любые «переделы» являются контролируемыми и не вредят консолидации элит.
Ростовский пример позволяет выделить три фактора, положительно влияющих на степень консолидации городских элит[1]:
политика регионального руководства (региональной элиты) по выстраиванию социального механизма в регионе, предполагающего формирование общерегиональной элиты («команды») и сохранение ее стабильности (методы этой политики могут различаться);
выстроенные отношения между административно-политической и экономической элитой региона (или города). В случае Ростовской области данный фактор практически тождественен вышеприведенному, является его частным проявлением. Вместе с тем, с аналитической точки зрения его следует считать самостоятельным фактором, влияющим на степень консолидации элит, что будет видно на примере других регионов;
наличие механизмов, позволяющих избежать или смягчить, провести на «договорных», бесконфликтных началах «переделы» рынков. Этими механизмами могут быть административно-политические, правовые, экономические. В Ростовской области таким механизмом является «сила» регионального руководства, проводимая им экономическая политика.
Вместе с тем, консолидация элит не означает их однородности, внутреннего «слияния». Как показывает пример Ростовской области, даже консолидированная элита может иметь фракции. Консолидация в данном случае означает сосуществование фракций, их способность находить компромиссы (при посредстве третьей, более сильной стороны – областного руководства).
По мнению экспертов, принявших участие в исследовании в Ростовской области, внутренняя структура элиты региона похожа на «слоенный пирог», разные группы которого делятся по вертикали, по горизонтали, по отраслевому признаку и т. д. Среди социальных классов элитой здесь считают, прежде всего, считают класс чиновников высшего звена разных уровней (будь то региональный, городской или уровень района города), крупных предпринимателей, депутатский корпус. Причем ведущая роль при принятии ключевых решений экспертами отводится представителям власти.
Вот какие мнения были высказаны в ходе опросов (г. Ростов-на-Дону):
«Чиновничество в состоянии продвинуть либо заблокировать принятие практически любого принципиального решения»;
«Бизнес всегда находится в определённых рамках - в рамках закона и установленных властью правил. Соответственно власть определяет вектор движения, а бизнес с одной стороны подстраивается под определённый вектор, для того, чтобы ему соответствовать. С другой же стороны, имея определённые финансовые возможности, бизнес может влиять на изменение траектории. Такой вариант тоже возможен»[2].
Большинство экспертов сошлись на том, что на сегодняшний день городская элита в Ростове-на-Дону представляет собой конгломерат разно-векторных социальных групп.
Удмуртская Республика (города Ижевск, Сарапул, Глазов)
Несмотря на приведенные выше количественные данные, в ходе интервью многие эксперты характеризовали городские элиты Республики скорее как фрагментированные, чем как консолидированные. Неоднократно отмечалось, что в городах Удмуртской Республики, включенных в настоящее исследование, имеет место фрагментация городских элитных групп, важность взаимной координации по решению общегородских вопросов ими недооценивается. Особенно это характерно для представителей бизнес-элиты Ижевска.
Вот две цитаты из соответствующих экспертных интервью (с представителями бизнес-сообщества г. Ижевска):
«Если мы говорим о предпринимателях, у которых небольшой оборот, они, как политическая сила, никак не представлены, они разрозненны и объединяться не собираются. К сожалению, у них не хватает ума понять, что чтобы что-то менять, нужно просто объединиться или, банально, раз в пять лет на выборах выступить одним фронтом. Если бизнес мог выступить как единая политическая сила, мы бы жили с вами в другой стране в другом городе, это я вам точно говорю. К сожалению, пока что об этом говорить не приходится. Многие отдельные предприниматели, имеют, скажем так, административный ресурс, какие-то свои возможности влияния, но говорить, что они – представители всего бизнес-сообщества, я бы не стал».
«Вообще, если посмотреть, то в Ижевске 35-40 процентов населения заняты в области, которая, так или иначе, называется малым бизнесом. И если бы была возможность предпринимателей объединить, это была бы мощнейшая экономическая и политическая сила. Но, к сожалению, я пока не вижу способов».
Исходя из сказанного, можно было бы сделать вывод о том, что как минимум одна часть городских элит (причем, наиболее важная) – бизнес-сообщества – в Республике консолидированы недостаточно.
Вместе с тем, данная ситуация не повлияла на получение Республикой «второго места» в рейтинге по степени консолидации элит. Это связано с тем, что в исследованных городах отсутствуют острые конфликты внутри элитных групп, как в политической, так и в экономической сферах. Наблюдается своеобразный консенсус элит и разграничение сфер влияния. Именно это позволяет, вопреки высказанным экспертами мнениям, говорить о достаточно сильной консолидации городских элит в Республике, понимая под консолидацией, прежде всего, неконфликтность, наличие механизмов выработки и достижения компромиссов.
Городские элиты Республики слабо консолидированы в смысле отсутствия понимания общих задач, какой-либо «программы действий» и соответствующих совместных усилий. Однако они достаточно консолидированы для того, чтобы решать общерегиональные и муниципальные социальные, экономические, политические задачи, обеспечивать функционирование внутреннего рынка и республиканской социально-политической системы (то есть механизмов распределения, перераспределения и осуществления власти, контроля денежных потоков и ресурсов, распределения и перераспределения собственности).
Подобная консолидация обеспечивается, прежде всего, региональной властью. Опять же, как и в случае с Ростовской областью, мы видим «благотворное» (в плане консолидации элиты и преодоления возможных и реальных конфликтов) влияние региональной элиты на состояние элит городских. Вместе с тем, в отличие от Ростовской области в Республике региональная власть в меньшей степени занимается системным элитным «строительством», формированием общерегиональной структурированной элиты, включающей муниципальный, городской сегмент как составную функциональную часть. В Удмуртии речь идет скорее о координации и контроле формирования и развития элит, выработке механизмов достижения компромиссов между ними с целью обеспечения решения задач регионального уровня.
Такой подход, как представляется, сложился исторически и связан с имевшими место в прошлом острыми конфликтами между республиканским руководством и городскими элитами (см. подробнее раздел 2 настоящего аналитического отчета). Логичным ответом региона стало создание механизмов контроля, администрирования, координации.
Относительная фрагментация бизнес-сообщества объясняется, на наш взгляд, административно-политическими методами политики регионального руководства в области «элитообразования». Бизнес-элиты либо включены в политику на условиях более сильной стороны, либо исключены из нее (имеют риск быть исключенными из политики). Внутренних механизмов общественно-политической самоорганизации данная социальная среда в настоящее время не демонстрирует, о чем и говорили опрошенные эксперты.
Вот еще одна характерная цитата на этот счет:
«На самом деле бизнес у нас участвует в городской жизни. Проблема в том, что он формально участвует. У нас раз в год проходят какие-то отчетные мероприятия: даже собираются какие-то круглые столы, советы по предпринимательству. Иногда, задаётся вопрос, что надо для предпринимателей сделать. Проблема в том, что дальше абсолютно ничего не происходит. Какой смысл бизнесу обсуждать бюджет, какой смысл бизнесу обсуждать Генплан, если, в принципе, на 99 процентов ничего не поменяется. Зачем я буду тратить время на эти пустые разговоры, на пустую трату времени. То есть проблема в отсутствии как такового гражданского общества и бизнес-сообщества.»
(Фокус-группа «бизнес-сообщество», Ижевск)
Однако это не означает полного отсутствия самоорганизации. Бизнес-сообществам в Республике удалось выработать определенные механизмы относительно самостоятельного разрешения экономических вопросов.
Предел происходит тихий мирный, не то, чтобы на принципах там рейдерства, вынуждения, угроз, а на обоюдных началах, на договоренностях. Если решили поделить какую-то сферу бизнеса, то это на условиях договоренностей продажи, перепродажи, уступок и все.
(Представитель муниципальной власти, Сарапул)
В пользу характеристики городских элит Удмуртской Республики как достаточно консолидированных говорит отмечаемое почти всеми респондентами отсутствие в исследованных городах оппозиции, контрэлит и иных подобных социальных явлений.
Так, в минимальной степени, по мнению респондентов, оппозиция представлена в Сарапуле и Глазове.
Как отмечают респонденты, в Ижевске есть активная оппозиционная группа во главе с одним из депутатов Ижевской городской думы, председателем Координационного Совета гражданских (протестных) действий. Комитет протестных действий впервые заявил о себе в Ижевске в январе 2005 года: после вступления в силу 122-го Федерального закона, когда по республике прокатилась волна протестных акций. К настоящему моменту Координационный Совет набрал вполне реальные обороты: по оценкам наблюдателей, в организуемых им акциях регулярно участвует от 200-400 человек.
Вместе с тем, данную группу трудно назвать оппозицией, а тем более контрэлитой. Скорее это маргинальное явление, ориентированное на развитие и эксплуатацию протестных настроений по так называемому «социальному вопросу». Очевидно, целевыми группами подобной «оппозиции» являются не городские элиты, а так называемые малообеспеченные слои населения.
Отсутствие политических конфликтов, сильных оппозиционных групп свидетельствует и о слабом формировании в исследованных городах контрэлит. Все это еще раз подтверждает вывод о достаточно сильной консолидации элит в Республике.
Санкт-Петербург и Ленинградская область (города Кировск и Сосновый бор)
Что касается города Санкт-Петербурга, то его элита, хотя и является городской, относится все же к региональным элитам, причем с серьезным «федеральным» компонентом. Общероссийские процессы элитообразования в 2000-е годы сделали Санкт-Петербург «второй столицей», пускай и уступающей по экономическому и политическому значению Москве, но по своему социальному составу, являющейся городом федерального уровня в полном смысле этого слова.
Соответственно, для Санкт-Петербурга характерно преобладание крупного бизнеса, тесно связанного с нынешним руководством города. По существу, отмечали участники экспертных опросов, город превратился в «пригород» Москвы, где действуют в основном те же экономические акторы: нефтегазовые гиганты, крупные банки федерального значения и т. д. Отсюда относительно слабое развитие в городе малого и среднего бизнеса, ставшего «наименее авторитетной группой городской элиты»: городскому руководству проще работать с крупными субъектами.
Консолидирующим фактором в городе является его административная власть, которая, как отмечалось ранее, во многом является проводником интересов крупных российских компаний. По существу, эта власть-бизнес не консолидирует, а администрирует городские элиты, действуя, в основном, с позиции силы. Отсюда в основном отсутствие публичной конфликтности, но отнюдь не мирное и «довольное» сосуществование элитных групп. При этом положение Санкт-Петербурга является во многом специфическим, поскольку городская власть имеет поддержку власти федеральной и соответствующие политические и экономические гарантии. Используя исторические аналогии, можно (с соответствующими поправками на новые социально-экономические реалии) назвать Северную столицу «вотчиной» Федерации.
Отсюда достаточно пессимистичные выводы опрошенных региональных экспертов:
По мнению участников опроса, говорить о консолидации элит в нынешней России не приходится, потому что: «сегодня о консолидации говорить очень тяжело, поскольку в обществе практически отсутствует какой-то даже минимальный набор положений, позиций, вокруг которых есть какое-то согласие (превышающее две трети членов элиты). За исключением каких-то простейших: например, договорятся о том, что победа в Великой Отечественной войне – это великое достижение советского народа».
В целом элита в представлении участников исследования в Санкт-Петербурге, складывается в основе из властного сектора (федеральная и городская власть) и крупного бизнеса с незначительным фактором некоммерческого сектора.
Муниципальная власть, как «падчерица» региональной власти Санкт-Петербурга, не обладающая каким-либо значимым ресурсом влияния, по существу не входит в «элитное ядро». Формально она может быть отнесена к городской элите. Однако фактически занимает в ней подчиненное, третьестепенное место. В отдельных случаях это провоцирует конфликтность, но она незначительна для политической системы города и быстро устраняется соответствующими административными и политическими методами. При этом население не оказывает поддержки муниципальной власти, не видя в ней проводника своих интересов и реального политического игрока.
В Ленинградской области ситуация иная. Здесь существуют определенные экономические и, соответственно, политические центры, где возникает относительно независимая городская элита.
Как и в других регионах, здесь можно отметить сильную взаимозависимость управленческой и экономической элит, что способствует консолидации городской элиты. Характерный пример этого – г. Сосновый Бор. На примере данного города можно выделить еще один (дополнительно к «ростовским») фактор, способствующий консолидации элит, причем не связанный с действиями более сильного игрока – региональной власти (элиты).
Речь идет об институциональном факторе: в этом городе консолидации элит способствовал переход к модели городского управления с «сити-менеджером». Было принято решение о разделении функций главы муниципального образования и главы местной администрации. При этом, оба руководителя муниципалитета избираются депутатами представительного органа: глава города является председателем совета депутатов, а глава администрации назначается этим советом по контракту. Таким образом, совет депутатов (то есть большинство в совете) контролирует все городское хозяйство. Хотя и здесь подобная модель рассматривается как оптимальная только меньшинством участниками исследования, именно она, как представляется, способствовала консолидации элит[3].
Для формирования соответствующего большинства бизнес-элиты используют различные механизмы, в том числе партийные, достигают консенсуса. Раскол элите не выгоден, так как возникает риск потери контроля ситуации.
Что касается других факторов – влияния региональной администрации, формирования работающего внутреннего рынка и т. д., то они также присутствуют в Ленинградской области. В то же время, степень внутриэлитной конфликтности в данном регионе выше, чем в рассмотренных ранее. Руководство региона не всегда оказывается способным координировать и контролировать процессы формирования и взаимодействия элит, что приводит к конфликтам между губернатором и мэрами, региональным правительством и советами депутатов муниципалитетов. В регионе отсутствует стабильная «команда», преобладает клановая организация элит, делегирующих в областное правительство своих «представителей» или иными способами лоббирующими свои интересы.
Нынешняя Ленинградская область в социальном измерении – это сложная, во многом скрытая, и относительно нестабильная система договоренностей, компромиссов, сделок. Отсюда высоки шансы появления и закрепления в регионе оппозиции и контрэлит.
Челябинская область (города Челябинск, Копейск, Миасс)
Регион отличается относительной консолидацией городских элит при их достаточно сильной автономии от региональной власти. Это связано, на наш взгляд, с наличием в Челябинской области сильных экономических центров, крупных предприятий, имеющих общероссийское значение.
Таким образом, можно констатировать, что экономическая и политическая автономия городов способствует большей фрагментации их элит, большей автономии фракций (что вновь указывает на важную роль такого консолидирующего фактора, как влияние региональной элиты). Следовательно, для таких городов важное значение приобретает способность элит к самоорганизации, выработке механизмов предупреждения и разрешения конфликтов.
В Челябинске, как отмечали участники проводимого исследования, внутри городского бизнес-сообщества острых конфликтов и агрессивного передела сфер влияния в последние годы не происходило, несмотря на определенную культурную специфику социальной истории города.
Надо говорить о бизнес элитах, которые сложились в перерабатывающей промышленности. У нас достаточно мощные позиции на российском рынке. Влияние «Макфы», «Пищепрома», «Увелки». Это три мощных бренда. Они между собой не воюют – не дружат, передел произошел, там устоявшиеся рынки. Элиты противостоят, когда идет передел рынка. Сейчас рынки либо сохраняются, либо теряются. Передел бесперспективен с точки зрения экономической. Металлургия, машиностроение – там только убытки делить. Передел строительного рынка состоялся и прошел. Войны нет. (Представитель бизнес-сообщества, Челябинск).
Из приведенной цитаты видно, что консолидирующую роль в городе выполняют несколько ведущих экономических акторов, договорившихся о «правилах игры» и правилах функционирования рынка. В подразделе, посвященном Ростовской области, мы упоминали о таком факторе, способствующем консолидации элит, как наличие механизмов, позволяющих избегать или смягчать, проводить на «договорных», бесконфликтных началах «переделы» рынков. В ранее рассмотренных регионах эти механизмы во многом обеспечивались влиянием региональной власти (элиты). В Челябинске они работают благодаря согласованным действиям основных экономических акторов.
В городе Копейске Челябинской области консолидирующую роль играет муниципальная власть. Здесь значимой фигурой является глава местной администрации, вокруг команды которого группируются городские элиты.
Ярославская область (города Ярославль, Тутаев, Рыбинск); Приморский край (города Владивосток, Уссурийск, Большой Камень), Иркутская область (города Иркутск, Ангарск, Шелехов).
Городские элиты данной группы регионов по результатам проведенного исследования можно назвать слабо, недостаточно консолидированными. Соответственно, в этих субъектах Федерации имели и имеют место серьезные конфликты внутри элит, а также конфликты между городами (руководителями муниципалитетов) и региональной властью.
Фрагментация (раскол) элит в рассматриваемых регионах во многом связана с состоянием региональных элит, которые либо также расколоты, либо имеют недостаточно сформированные механизмы самоорганизации. Данные субъекты Федерации не создали региональных «управленческих» команд, не формализовали отношения в экономической сфере, не до конца определили место каждой фракции в общеэлитном «раскладе».
При этом, в самих городах не возникли внутренние консолидирующие механизмы, например, «совместные совещания» (в переносном смысле) крупных экономических акторов или муниципальные управленческие команды, умеющие принимать компромиссные решения и пользующиеся доверием.
Результаты количественного исследования позволяют дать следующую общую характеристику регионов в контексте консолидации-фрагментации городских элит:
Иркутская область, Приморский край – своего рода полюс центробежных тенденций: разобщенные элиты, не признающие влияния городской (или какой-либо другой) власти, критично оценивающие любое из направлений деятельности городской администрации.
Ярославская область – регион с «пограничными» характеристиками, с относительно слабо консолидированной элитой, сложившейся в 90-х годах, но достаточно влиятельной городской властью, что позволило респондентам утверждать, что городская элита, например, в Ярославле, делится на две части: команда мэра и команда губернатора.
Расколу элит, как видно из результатов исследований в рассматриваемой группе регионов, во многом способствует недостаточная институционализация экономических отношений, когда сильные экономические акторы не имеют адекватного представительства в органах городской власти. Иначе говоря, когда решения в городе пытаются принимать не те лица, у которых в руках рычаги управления городским хозяйством.
Например, в городе Уссурийске Приморского края респондентами и экспертами констатируется достаточно сильный раскол городской элиты, при этом в качестве ведущей силы отмечается бизнес. В городе Большой Камень этого же региона значительный контроль над ситуацией в городе имеет действующая городская администрация, однако союз предпринимателей является оппозицией существующему городскому главе.
Таким образом, в данном случае можно говорить о выполнении бизнес-элитами городов функций контрэлиты по отношению к муниципальной власти, что свидетельствует о необходимости проведения в соответствующих муниципалитетах политической и институциональных реформ с целью консолидации элит, создания работающих центров принятия компромиссных решений.
В г. Ангарске Иркутской области эксперты отмечают раскол городской элиты и при этом указывают, что сплочение элит в городе происходило в ретроспективе в случае появления эффективного лидера («катализатора»).
«Элита мобилизуется, когда появляется катализатор. А так она разобщена. Нет стадии войны, просто разобщена. Просто каждая элита занята своими элитными делами. А потом появляется катализатор, элита объединяется. Ведь в 2002 году элита объединилась вокруг Евгения Павловича [Канухина, мэра в гг.]. И поддерживала его на протяжении всего срока его первого.
(Участники фокус-групп, г. Ангарск)
Таким образом, еще одним фактором, способствующим консолидации элит, является наличие лидера, вокруг которого могут сплачиваться (и, под его влиянием, находить компромиссы различные элитные группы).
* * *
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что факторами, способствующими консолидации городских элит, являются, чаще всего:
влияние регионального руководства (региональной элиты) по выстраиванию социального механизма в регионе, предполагающего формирование общерегиональной элиты («команды») и сохранение ее стабильности (методы этой политики могут различаться);
механизмы согласования интересов между административно-политической и экономической элитой региона (или города), наличие работающей системы сдержек и противовесов;
механизмы выработки и реализации «правил игры» на рынке, распределения и перераспределения собственности (административно-политические, правовые, экономические (рыночные));
институциональные (влияние институционального дизайна, например, конструкции института главы муниципального образования, главы местной администрации);
субъективные: наличие эффективного лидера (возможно, группы лидеров).
Слабость указанных факторов способствует фрагментации (расколу) городских элит. Напротив, их сочетание (как в случае Ростовской области), приводит к высокой консолидации элит. Однако, следует обратить внимание, что и в Ростовской области консолидация элит обеспечивается преимущественно административными методами, что вряд ли стимулирует переход к инновационному развитию.
Как показывают результаты исследования, в городах, включенных в выборку, основным консолидирующим элиты фактором выступает первый (из числа перечисленных выше), то есть административный. Также определенное значение имеет субъективный фактор. Институциональный отмечен нами только в одном случае – г. Сосновый Бор Ленинградской области, хотя не следует исключать его действия в других городах, не попавших в выборку.
Что касается остальных факторов, которые условно можно назвать «консессуальным» и «договорным», то они, как правило, самостоятельно не действуют. Их действие обеспечивается административным механизмом, патронажем сверху. Лишь в редких случаях договорные формы возникают сами по себе, без целенаправленного воздействия региона, иной вышестоящей элитной группы. Это происходит, например, когда на рынке или в политической сфере города оказывается несколько относительно равных по силе (или заинтересованных друг в друге) акторов, способных договориться. Возникает «картельное соглашение», которое имеет мало общего с плюралистической рыночной и политической системой.
Преобладание административного фактора следует, на наш взгляд, связывать с неготовностью элит к принятию, с одной стороны, ценностей политической и экономической конкуренции, а с другой – ценностей гражданской солидарности. Сознание элит, как и всего общества, тяготеет к моноцентризму, монополизму, «патрон-клиентским отношениям», восприятию любой формы плюрализма как угрозы распада системы.
Несмотря на прошедшие 20 лет реформ, в общественном сознании политические права и политическая ответственность считаются принадлежащими центральной власти (суверену-сюзерену-собственнику) и региональной власти («поставленным властям»). Городские элиты не осознают своей самостоятельности, явно испытывают дефицит творческого отношения к задачам развитию своих территорий. Вместе с тем, получив относительную «свободу», они стремятся занять место «суверена-собственника», монополизировать власть и собственность на своем пространстве.
* * *
Важно обратить внимание еще на один аспект: полученные результаты исследования показывают недостаточную консолидирующую роль политических партий. Они в настоящее время не способствуют консолидации городских элит в рамках политического поля. В структуре вышеперечисленных факторов политические партии оказываются, в основном, в составе первого фактора (влияние регионального руководства). Таким образом, партии оказываются инструментами консолидации элит, используемыми региональной властью, то есть относятся к сфере «административного ресурса». Их роль в формировании других факторов в настоящее время весьма незначительна, что свидетельствует о необходимости развития работающей партийной системы на местном уровне.
Вторая «дихотомия»: конкуренция или монополия? Стабильность или ротация?
Результаты проведенного исследования позволяют охарактеризовать изученные городские элиты как стремящиеся к монополии (во власти, бизнесе и других областях) и, соответственно, стабильности, что при «успехе» монополизации и длительного удержания власти (преобладания в бизнесе) приводит к застою внутри элиты.
Опрошенные эксперты нередко объясняли эти тенденции особенностями «российского менталитета», в том числе сохранением многих черт позднесоветского общественного сознания, когда общество было приучено к монополизации центров власти и экономической деятельности, а политическая борьба сводилась не к поиску компромиссов, а к вытеснению конкурентов с целью занятия монопольного положения.
Косвенно эти позиции подтверждаются сделанными в подразделе 4.1 выводами о слабости оппозиции, отсутствии контрэлит в городах, где сложились консолидированные элиты. «Элитное ядро», при наличии сильного консолидирующего фактора, выстраивается, как правило, в форме «команды» того или иного лидера.
Примеры из отчетов о проведенном исследовании в г. Челябинске и Миассе Челябинской области:
Респонденты так характеризуют «команду Юревича» (главы города Челябинска):
«[Вот как] выстроена команда Юревича. Там есть один Юревич, а остальные подчиненные, жесткая команда. Она построена по принципу спортивной команды. У каждого есть роли, и все играю в ворота Юревича. Если кто-то хочет работать с ними, то вынужден играть по этим правилам. Это далеко не худшая команда по профессиональным признакам, но она застоялась».(Представитель бизнес-сообщества, Челябинск)
г. Миасс:
«Наиболее влиятельной элитной группой в Миассе является «команда Ардабьевского» (главы администрации города) - это не только те управленцы, которые занимают официальные посты в городской администрации, но также представители бизнеса, связанные с главой администрации города общими экономическими интересами. Отношения городских бизнес - и властных - элит в Миассе (как и в Челябинске) характеризуются своеобразной «срощенностью»: и Юревич, и Ардабьевский – люди, пришедшие во власть из бизнеса. По мнению респондентов, их бизнес-интересы сохранили свою актуальность. Именно поэтому властный ресурс многими участниками исследования рассматривается как дополнительная возможность развития (или обеспечения безопасности) собственного бизнеса.
Реальной оппозиции, как полагают участники исследования, в городе не существует».
Безусловно, наличие «командного принципа» построения «элитного ядра» не означает, что в каждом случае управленческая команда «захватывает» власть и подавляет оппозицию. Как правило, команды возникают в результате системных действий того или иного лидера по поиску компромиссов, выстраиванию механизмов взаимодействия между элитными группами. Команда – это, по существу, лишь форма внутриэлитного компромисса по поводу «правил игры».
Как видно из полученных результатов исследования, команды могут создаваться как «сверху», так и возникать в ходе выстраивания муниципальных политико-экономических систем.
Например, в Ростовской области (город Ростов-на-Дону), позитивное отношение со стороны элит к команде губернатора , монополизировавшей основные политические ресурсы, связано с относительно грамотным ведением административно-политической работы, а также умением правильно распределить влияние и ответственность среди элитных групп и доминирующих политических акторов.
Наблюдатели отмечают, что в команду входят не только из давних соратников Губернатора, но из людей, инкорпорированных в нее, в достаточной степени, по своим профессиональным качествам
Основные экономические игроки в регионе инкорпорированы в политическую систему, построенную действующей областной властью и стараются не выходить за рамки дозволенного. Вместе с тем, в рамках установленного «регламента» они способны претендовать на продвижение в депутаты Законодательного Собрания или Государственной Думы (в зависимости от масштабов контролируемого бизнеса), однако при условии лояльности административной команде .
Как следствие - основные экономические игроки лишены мотивации на участие в реальном политическом процессе, поскольку ограничены как их возможности резкого укрепления позиций (возможности серьезного «передела» отсутствуют), так и, напротив, невелики шансы разрушения бизнеса при условии стабильной эффективной работы. Поэтому основные бизнес-группы либо воздерживаются от участия в политике, либо «делегируют» своих представителей в законодательные органы с целью лоббирования интересов и повышения статусных позиций.
Таким образом, монополизация политических ресурсов способствует консолидации городских элит в регионе (первый консолидирующий фактор из числа рассмотренных в подразделе, посвященном «первой дихотомии»).
Фрагментация (раскол) элит, очевидным образом, означает и большую конкуренцию среди элитных групп (что, собственно, и составляет природу такого явления, как внутриэлитная фрагментация).
В регионах с фрагментированными (расколотыми) элитами можно наблюдать отсутствие действенных, авторитетных команд. Здесь они являются не формами компромисса (взаимодействия) элит, а политическими или административными машинами лидеров (групп), намеревающихся ввести собственные «правила игры» и навязать их остальным элитным группам.
Пример из регионального отчета по Приморскому краю:
Муниципальный класс во всех трёх городах является закрытым. Назначение на ключевые должности городской администрации происходит исключительно по принципу того, что кандидат долгое время находится длительное время на муниципальной службе.
В случае регионов с фрагментированными городскими элитами следует говорить о тенденции (стремлении отдельных элитных групп) к монополизации политических и экономических ресурсов, что может не достигаться благодаря соответствующему институциональному дизайну или слабости консолидирующих механизмов. Суть расколов сводится к поиску путей усиления одной (нескольких) элитных групп с целью формирования действенной «команды».

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Кейсианство • Кейнсианский подход (финансы) • Договора финансового лизинга • Финансирование • Финансовое мошенничество • Форфейтинг • Элита • Антикризис • Кризис • Бизнесмены • Бизнес-планы • Бизнес-центры • Дистрибьюторы • Доверительное управление • Инновационные проекты • Покупка бизнеса • Предприниматели • Производство • Финансисты
Проекты по теме:
 Основные порталы (построено редакторами)
Основные порталы (построено редакторами)